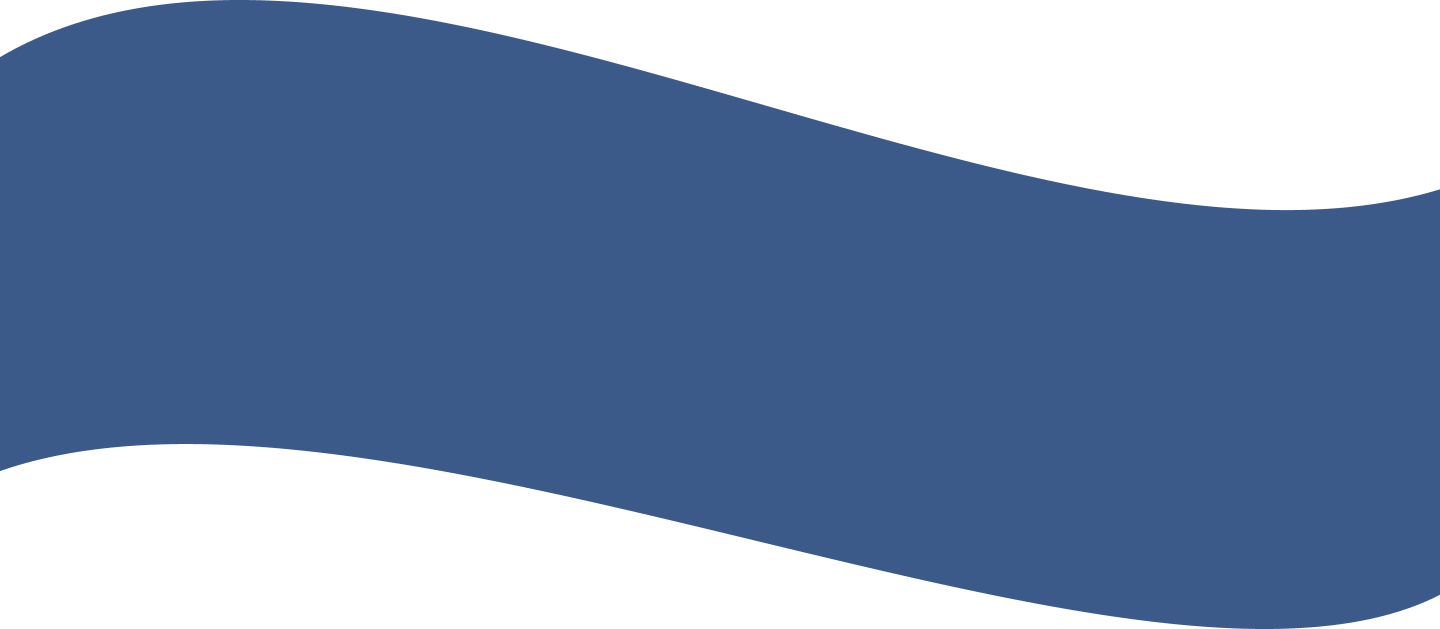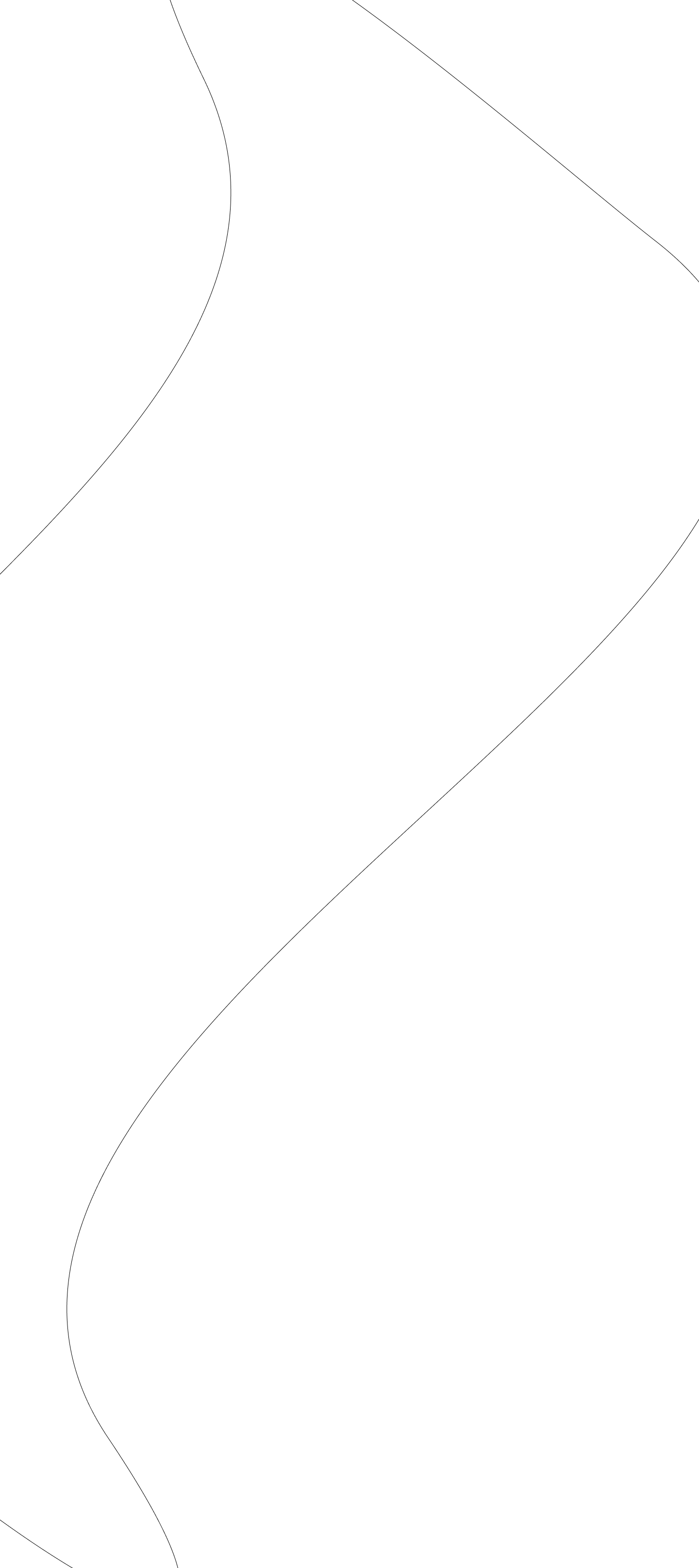

Пути
Ну так что ж, начни с начала. Или с сегодня — как захочешь, скажи: «Я был…» Хотя так получается, как будто уже с конца, не годится. Пусть будет так:
Я есть. Мне шестьдесят семь. Давно ли? Как будто не так уж. Всю жизнь был беспутным, а когда стал взрослым, нашел свою дорогу. Точнее, много их нашел, потому что поселился я лет пять назад на железнодорожной станции.
Лукавишь, Иван Степаныч. Поселиться-то поселился, а в голове все та же каша, как и до этого, и служишь ты еще людям, а не кому надо на самом деле. И то правда, смелости недостает признаваться в этом. Но дождь-то я помню, ту лужу в овраге около путей, горькую землю, соленые слезы вперемешку с соплями. Видишь, даже за сопли не стыдно! Так еще бы…
А дело было так.
Сначала проснулись птицы, потом — комары и мухи. Ивану Степанычу снилось, что он шел по улице со своей матерью, которая тогда уже была слабой и страдающей, они шли, и он знал, что вот-вот она должна умереть, но чем дольше они будут идти, тем дольше она будет живая, и он старался разговорить ее, сказать ей что-то важное и приятное, но получалось всегда, что говорил о смерти. Матушка очень расстраивалась и слабела еще больше, а на голове у нее были синие косички, как у внучки Ивана Степаныча, и большая шляпа, из-за которой не было видно лица, а он все силился его рассмотреть и запомнить, потому что знал, что скоро ее не будет и он больше никогда на нее не посмотрит вот так — с чувством. Каким? Да не важно, хоть с каким, не посмотрит, и все, конец. Шли они так как будто долго, хотя от дома до больницы было недалеко, и все слышал он какой-то писк или треск, все отмахивался от него, чтобы тот не мешал им двоим разговаривать и ему — запоминать матушкино лицо, пытаться его поймать и посмотреть с чувством. Но мать сказала: «Что это за писк?» Тогда он обернулся и увидел двух синиц, обнявшихся одними крылами, а при помощи других летящих прямо на них — быстро-быстро и очень громко. Они сели на материны косички и стали выкусывать из них маленьких паучков и букашек, Иван Степаныч испугался паучков и проснулся.
После такого сна ему было дурно. Оказалось к тому же, что будильник звонил три часа назад, а он его не слышал, и в комнате было душно, потому что на улице уже вовсю цвел день, а форточка осталась закрытой с ночи. Иван Степаныч проспал утренний обход и чувствовал себя прескверно, все пытаясь понять, что значили эти синички и букашки в его сне.
Посидев с минуту на кровати, Иван Степаныч вздохнул, натянул носки, брошенные с вечера около кровати, и поплелся умываться во двор. В голове что-то мутно покачивалось и слегка звенело, в сенях из угла привычно пахнуло прошлогодними медовыми сотами, он подцепил по очереди ветхие калоши и вышел на крыльцо. Солнце уже успело его раскалить, пыль сияла приветливым августовским днем, но Ивану Степанычу хотелось зажмуриться и поскорее уйти в тень, как бывает, когда приходишь в гости без приглашения и встречаешь удивленную публику, совсем не ожидая никого удивить. Около крыльца, в прохладном сумраке, был устроен умывальник. Вода в нем почти никогда не прогревалась даже за целый день, и Иван Степаныч в который раз порадовался этому, хотя и чувствуя, что пытается этой маленькой радостью, в сущности, ничего не стоящей, лишь привязать себя к миру, вернуть себе ощущение нахождения здесь и сейчас. Он кидал холодную воду на небритое лицо, невзначай дотрагиваясь до щек, носа, полузакрытых глаз, чтобы вспомнить, что у него есть лицо, есть тело и, выходит, есть сознание, даже, пожалуй, какая-никакая душа. Оставленное с вечера полотенце было почти мокрым, но это ничего, это было даже хорошо, и, обтершись им, Иван Степаныч смог-таки посмотреть на себя в мутный осколочек зеркала, а потом и на двор полностью открытыми глазами.
«Сейчас покормить куриц, потом обход, поесть, покурить, а вечером и траву можно скосить, если не слишком устану», — перечислил дела и немного успокоился. Четкий план создал видимость контроля над днем, жизнью, временем. Но и тревога, конечно, никуда не делась, а только усиливалась с каждой секундой осознания своей роковой ошибки (накануне он слишком долго решал кроссворды — почти до трех, потому и проспал).
Одевшись и обувшись как положено, Иван Степаныч закрыл дом на ключ — и зачем это на ключ, если никого, кроме меня, отродясь тут не было? Ну как же, для порядку, — и вышел в обход.
Перед обходом следовало заглянуть в дощатую будочку, которая и была местом его работы. Когда-то давно, когда поезда здесь были частыми гостями, будочка эта служила и справочным бюро, и складом материалов для посильной починки дорожного полотна, и местом дежурства каждого из пятерых обходчиков. Возле этой неказистой будочки иногда разбивались судьбы — отъездом в армию или на вахту, да даже простым письмом, которое и само не знает, какое оно сильное и страшное. Еще на эту будочку безразлично смотрели штабеля леса, поваленного неподалеку: их привозили на узкоколейке с одной стороны будочки и грузили в большие вагоны на другой. И было много голосов, были песни, смех, всхлипы, белые платочки, тугие гимнастерки, а теперь будочка одна и обходчик для нее тоже один. А неподалеку от поста была деревенька, жившая лесом и подворьями, с обелиском павшим воинам, школой и больницей, не без тягот, но счастливая. А остался в живых только домик обходчика, выстроенный когда-то в прошлом веке, когда эта должность была важной и нужной, а на работу сюда стали присылать людей из города, у которых своей избы в деревне не было. Помнил ли этот домик всех людей, которым давал кров в своей жизни? Наверное, нет: слишком коротка жизнь человека, слишком незаметна жизнь обходчика, чтобы такой булыжник истории посмотрел на него с чувством.
Ныне в будочке пылилась самодельная дрезина с сердцем от мотоцикла — наследство от прошлого обходчика, тележки, мешки с песком, колышки и молоточки, а в «красном углу» — целый музей из находок каждого обходчика: гвозди и нашлепки с датами замены рельсов, ржавые и не очень подстаканники, болты, гайки и старющий семафор ручного управления. Иван Степаныч уважительно поглядывал на все это великолепие прошлого, но из своего кармана к коллекции за все пять лет прибавил только одну нашлепку, не отличившуюся особым возрастом среди собратьев, да один почти современный детский билет — почти расплывшийся, хотя и лежавший в клеенчатом мешочке.
Правда, однажды Иван Степаныч нашел вещицу поинтереснее — колечко, по-видимому, бывшее когда-то золотым или золоченым, но от времени позеленевшее и утратившее свой единственный камешек-куполок. Ивану Степанычу нравилось думать, что какая-то прелестная девушка выбросила колечко в окно, когда невзначай узнала об изменах своего возлюбленного, и было это, конечно, еще до революции, когда девушки предпочитали вышивать, петь романсы и падать в обмороки, а не строить БАМ. Возлюбленный тогда должен был горевать и уехать на Кавказские воды, а лучше в Италию, и через много лет встретить ее вновь — сохранившую «остатки былой красоты» и прекрасную талию — и понять, как сильно он ошибся в молодости, предпочтя ей другую. Но колечко уже выброшено, и кто-то найдет его только через много лет. И в этих полувзглядах, полувздохах и полужизни Иван Степаныч видел как раз-таки жизнь настоящую, красивую и благородную, поэтому колечко носил всегда с собой в одном из карманов рабочей формы.
Захватив в будочке пару молоточков на длинных рукоятках да матерчатую сумку с деревянными колышками, Иван Степаныч вышел в обход. Обычно летом он начинал его часов в семь-восемь, когда солнце уже начинает припекать, но в лесу еще прохладно, а местами, в тени или густой траве, и роса не успевает просохнуть. Сначала нужно обойти маленький аппендикс узкоколейки — до леса и обратно, километра три в одну сторону выходит. Большой обход этой вспомогательной ветки делается раз в месяц, хотя в управлении поговаривали, что скоро снова приедут валить лес, и тогда прибудут настоящие ремонтники, а им подавай план починки на всю трассу под ведомством Ивана Степаныча. Правда, поговаривать-то поговаривали уже не первый год, почти с самого приезда слышал он эти «поговоры», думал: вот жизнь-то начнется, возрождение глубинки, ренессанс, но, кажись, не тут-то было. Ну, оно и к лучшему даже — в деревне из одного дома своих забот по горло, успевай только курей гонять, да траву косить, а на зиму еще и дрова готовить придется.
В общем, долгий обход узкой дороги проводился Иваном Степанычем не раз в месяц, а раз, пожалуй, в год, когда нападала на него страсть к блужданию, столь характерная для местных, столь похожая на ту заповедную утраченную жизнь, от которой осталось только тоскливое позеленевшее колечко. Накануне напасти Иван Степаныч ходил обычно сам не свой, не знал, куда себя пристроить и много читал чего попало: детективчики на один зуб с яркой обложкой, пошленькие романчики, зоновские истории. Больше всего Иван Степаныч ненавидел книгу «Я вор в законе на зоне» за его почти ямб в названии, которое крутилось бы в голове весь день, если только попадется на глаза проклятущая книжонка. Все это, конечно, привез в дом обходчика кто-то из старых, а сам Иван Степаныч захватил из старой своей квартиры только одну книгу — дочерины школьные «Записки охотника». Очень скоро оказалось, что, хотя и отвечает эта книга быту обходчика как нельзя лучше, получается все-таки жизнь в слишком тонких материях, на слишком чистых вибрациях, и выдерживать это нет никаких сил. Поэтому и началось планомерное изучение воровской агиографии, а также перипетий раскрытия надуманных дел и развязывания любовных узлов. Эта уникальная в своем роде какофония на какое-то время заглушала странные голоса, то куда-то звавшие, то за что-то распекавшие, то о чем-то молящие. И страшно хотелось жить ему в эти моменты, плакать и смеяться громко и сильно, падать перед кем-нибудь на колени и благоговейно — именно так! — взирать на луга, леса, лица и дороги. В конце концов оставался один выбор: бутылка или дальний обход. Предпочтение обычно отдавалось последнему, поскольку своей бутылки про запас Иван Степаныч не держал, допивая при случае все до последней капли, а идти в ближайшую деревню все равно что идти в обход.
Так было и в этот раз. Разве что, вместо истории про вора Иван Степаныч сел накануне за кроссворд, хотя и знал уже, что время блуждания пришло, что зовет дорога и надо встать и повиноваться, и была в этом какая-то своя прелесть, было какое-то свое служение — правда, пока еще не совсем искреннее и чистое из-за осознаваемой прелести.
Что ж, вышел из будочки по жаре. Можно было бы взять дрезину, мотануться туда-обратно, а потом и на основную дорогу сходить, да коптит она сильно, душит все вокруг, а для блуждания это совсем не подходит. Пошел пешком. Пути кое-где совсем позаросли густой осокой и спорышом, из-под самых рельсов поднялся молодой боярышник, но сами железяки и шпальные деревяшки еще были целы и хороши. На действующих дорогах это все зеленьё выкашивается самими вагончиками, изредка надо убрать разве большие кусты, хотя обыкновенно они и не успевают вытянуться, а здесь всему приволье без человека, шума и копоти. Чуть подальше справа потянуло болотом, заквакали лягушки; раньше местные резали там торф для своих печей, а сейчас туда и подойти будет сложно — полные калоши грязи наберешь, а стрелу царевича и не отыщешь.
Иван Степаныч дошел до развилки, по-уставному простучал рельсы, вручную перевел единственную стрелку — все работает. Даже старый семафор с прошлого года как будто не обветшал более, надо было, пожалуй, его подкрасить, да бог с ним, кому тут дорогу указывать — белкам разве? Пусть так стоит, а приедут лесовики, так сами себе и семафор, и дорогу наладят.
Он присел на лавчонку около бетонных крошащихся подстилов, раскурил «Петра» и задумался. Тоска блуждания не отпустила — придется и на большую дорогу идти, а траву во дворе будет косить завтра. Послушал птиц. Никогда особо их не различал, но сегодня одна пела как-то высоковато и слишком протяжно, даже жалобно, нерадостно, и стало немного не по себе. Из леса тянуло холодом, хотя весь он сквозил золотом на солнце и довольно потрескивал от старости и изобилия. Великий лес — ни больше, ни меньше. Иван Степаныч достал из-за пазухи колечко, повертел его, надел на мизинец, потрогал, снял, рассмотрел каждую ножку для отсутствующего камушка и подумал: «Вот он я — то ли камушек, а то ли колечко без него». Усмехнулся своей мудрости, высморкался и пошел обратно.
Пока он шел обратно к будочке, стало совсем душно. Болотная сырость смешалась с запахом прошлогодней травы между рельсами, и при каждом шаге из-под ноги вылетало небольшое, едва заметное облачко пыли, которая обычно прижата свежей травой или росой с нее и не высовывается. А тут повылазила вся — ишь ты, подишь ты. Иван Степаныч мысленно ругал пыль, духоту и вонь, сам не зная, почему сегодня его это особенно раздражало.
Дошедши до будочки, он опять покурил, но уже не раздумывал; поглядел на свой домишко издалека, сосчитал кур на дворе, потеряв одну и не заметив этого, и отправился на большую дорогу.
Дорога эта знаменательна была не тем, что вела к глухой мертвой деревеньке или в былые годы высасывала из нее лес, а тем, что состояла практически полностью из моста. Такие протяженные и высокие мосты строили обычно над большими или глубокими реками, но речка Суховейка такой не была, а роскошный мост достался ей в подарок за очередную «пятилетку в три года», когда делать что-то надо было, а делать уже было нечего.
Иван Степаныч шел к мосту бодрясь, старательно не замечая усиливающегося ветра, все больше холодеющего при приближении к реке. Он шел и мысленно перечислял прошлые и будущие дела свои, прикидывал, когда лучше сходить в деревню за продуктами, чтобы заодно позвонить детям с магазинного телефона, сколько гречи взять себе в этот раз. Или, может, перловки попробовать? С армии, кажется, ее не ел. Есть — это вкушать. Вкусите кровь и плоть мою… Все перемешивалось в голове у Ивана Степаныча, а он был этому рад, потому что не слышал назойливых голосов, которые напоминали ему о странном сне с птицами и синими косичками. Ветер крепчал, и в духоте уже начали подниматься с горизонта зеленоватые тучи, подсвеченные сзади послеполуденным жарким солнцем.
Придя к реке, Иван Степаныч сильно удивился. Суховейка за лето располнела и стала походить на настоящую русскую барыню-реку, а не на побегайку, которой была даже весной, когда все остальные реки набирают силу. Он смотрел на берега и не узнавал их, смотрел на мост и пытался вспомнить, как выглядел он в прошлый раз. Вроде так же. Почему ж тогда речка другая? Он взошел на мост и зачем-то свистнул. Свист пролетел через весь мост, споткнулся о лес на том берегу и вернулся обратно, немного испуганный и сильно ослабевший. Иван Степаныч пошел по мосту, все смотря через облезлые перила на реку, ставшую вдруг такой значительной и даже страшной. «А что будет, если сигануть? Да ничего – бултых, и готово. Ну страшно как-то. Ну страшно». Начало накрапывать. Ивану Степанычу стало казаться, что и дождь тут взялся оттуда же, откуда взялась вода в Суховейке, то есть откуда не надо браться. Ему стало казаться, что дождь хочет смыть его в реку, потому что он подумал, что прыгать с моста будет страшно.
Одиноко. Как-то страшно одиноко стало Ивану Степанычу среди великой природы, спокойной реки и человечьего моста. Он присел на бетонный выступ сваи и закурил вновь. Почему-то почудилось, что мост может вдруг устать его держать и лечь в реку. Он представил это и вдруг поднялся, сам лег между рельсов, где в ложбинке уже начала собираться дождевая вода. Страдание мое чисто и безвинно, пусть не будет в нем стыда, уважайте чужое страдание…
…Он вспомнил, как ушла мать. Он не успел с ней попрощаться: ехал, летел, опять ехал, но не успел. Так ведь всегда бывает, да? Всего не выскажешь, даже посмотришь уже с другим чувством. Сестры на коленях плакали, иногда вскрикивая, позже чуть успокаиваясь и снова вскрикивая. А он стоял с нетвердыми коленями и чувствовал, как ресницы впиваются в веки — так широко от ужаса распахнулись глаза, он стоял и смотрел на изменившееся ее лицо и не мог понять, как жизнь его так нагло обокрала, обманула. В голове всплывали какие-то пошлые фразочки, не то отрывки откуда, не то настоящие его мысли: «жизнь раскололась на до и после», «тысячу раз спасибо, тысячу раз прости». И все это была правда, даром что это была и пошлость — просто обычно этому не веришь, но на границе все оказывается именно так. Казалось, вот-вот она задышит и все станет, как прежде, но так уже никогда не стало, и в какую-то из ночей он перестал просыпаться в слезах, потом перестал считать месяцы, прошедшие с того дня, потом уехал на дорогу, просто курить стал больше обычного. И все как будто подернулось туманом: и розы в оградке, и пахучая черемуха, и комната с желтой лампой, и одноухая кошка, ушедшая жить к соседям. Жизнь, так сказать, вошла в колею. А вину кому оставил, Иван Степаныч?
Он вернулся домой продрогший и как будто пьяный, как будто чистый, но тяжелый-тяжелый. Куры сами сбились в стайку и недовольно клевали пустое деревянное корыто, в котором обычно находили дробленку. Иван Степаныч согнулся и вошел в клетушку, сел на куриный помост, отодрал край бумажного пакета и насыпал корм. Птицы закудахтали и принялись неистово клевать, а одна, забывшись, начала щипать штанину Ивана Степаныча. Он взял ее на руки, гладил и смотрел на остальных. «Бедная моя, глупая птичка, птичка-синичка, курочка маленькая, страшно тебе, наверное», — курица выпросталась из его рук и смешалась с другими. «”Иван” значит “Бог помилует”», — он сунул руку в нагрудный карман, достал колечко, вышел из закута и, размахнувшись, бросил колечко далеко-далеко.
Я есть. Мне шестьдесят семь. Давно ли? Как будто не так уж. Всю жизнь был беспутным, а когда стал взрослым, нашел свою дорогу. Точнее, много их нашел, потому что поселился я лет пять назад на железнодорожной станции.
Лукавишь, Иван Степаныч. Поселиться-то поселился, а в голове все та же каша, как и до этого, и служишь ты еще людям, а не кому надо на самом деле. И то правда, смелости недостает признаваться в этом. Но дождь-то я помню, ту лужу в овраге около путей, горькую землю, соленые слезы вперемешку с соплями. Видишь, даже за сопли не стыдно! Так еще бы…
А дело было так.
Сначала проснулись птицы, потом — комары и мухи. Ивану Степанычу снилось, что он шел по улице со своей матерью, которая тогда уже была слабой и страдающей, они шли, и он знал, что вот-вот она должна умереть, но чем дольше они будут идти, тем дольше она будет живая, и он старался разговорить ее, сказать ей что-то важное и приятное, но получалось всегда, что говорил о смерти. Матушка очень расстраивалась и слабела еще больше, а на голове у нее были синие косички, как у внучки Ивана Степаныча, и большая шляпа, из-за которой не было видно лица, а он все силился его рассмотреть и запомнить, потому что знал, что скоро ее не будет и он больше никогда на нее не посмотрит вот так — с чувством. Каким? Да не важно, хоть с каким, не посмотрит, и все, конец. Шли они так как будто долго, хотя от дома до больницы было недалеко, и все слышал он какой-то писк или треск, все отмахивался от него, чтобы тот не мешал им двоим разговаривать и ему — запоминать матушкино лицо, пытаться его поймать и посмотреть с чувством. Но мать сказала: «Что это за писк?» Тогда он обернулся и увидел двух синиц, обнявшихся одними крылами, а при помощи других летящих прямо на них — быстро-быстро и очень громко. Они сели на материны косички и стали выкусывать из них маленьких паучков и букашек, Иван Степаныч испугался паучков и проснулся.
После такого сна ему было дурно. Оказалось к тому же, что будильник звонил три часа назад, а он его не слышал, и в комнате было душно, потому что на улице уже вовсю цвел день, а форточка осталась закрытой с ночи. Иван Степаныч проспал утренний обход и чувствовал себя прескверно, все пытаясь понять, что значили эти синички и букашки в его сне.
Посидев с минуту на кровати, Иван Степаныч вздохнул, натянул носки, брошенные с вечера около кровати, и поплелся умываться во двор. В голове что-то мутно покачивалось и слегка звенело, в сенях из угла привычно пахнуло прошлогодними медовыми сотами, он подцепил по очереди ветхие калоши и вышел на крыльцо. Солнце уже успело его раскалить, пыль сияла приветливым августовским днем, но Ивану Степанычу хотелось зажмуриться и поскорее уйти в тень, как бывает, когда приходишь в гости без приглашения и встречаешь удивленную публику, совсем не ожидая никого удивить. Около крыльца, в прохладном сумраке, был устроен умывальник. Вода в нем почти никогда не прогревалась даже за целый день, и Иван Степаныч в который раз порадовался этому, хотя и чувствуя, что пытается этой маленькой радостью, в сущности, ничего не стоящей, лишь привязать себя к миру, вернуть себе ощущение нахождения здесь и сейчас. Он кидал холодную воду на небритое лицо, невзначай дотрагиваясь до щек, носа, полузакрытых глаз, чтобы вспомнить, что у него есть лицо, есть тело и, выходит, есть сознание, даже, пожалуй, какая-никакая душа. Оставленное с вечера полотенце было почти мокрым, но это ничего, это было даже хорошо, и, обтершись им, Иван Степаныч смог-таки посмотреть на себя в мутный осколочек зеркала, а потом и на двор полностью открытыми глазами.
«Сейчас покормить куриц, потом обход, поесть, покурить, а вечером и траву можно скосить, если не слишком устану», — перечислил дела и немного успокоился. Четкий план создал видимость контроля над днем, жизнью, временем. Но и тревога, конечно, никуда не делась, а только усиливалась с каждой секундой осознания своей роковой ошибки (накануне он слишком долго решал кроссворды — почти до трех, потому и проспал).
Одевшись и обувшись как положено, Иван Степаныч закрыл дом на ключ — и зачем это на ключ, если никого, кроме меня, отродясь тут не было? Ну как же, для порядку, — и вышел в обход.
Перед обходом следовало заглянуть в дощатую будочку, которая и была местом его работы. Когда-то давно, когда поезда здесь были частыми гостями, будочка эта служила и справочным бюро, и складом материалов для посильной починки дорожного полотна, и местом дежурства каждого из пятерых обходчиков. Возле этой неказистой будочки иногда разбивались судьбы — отъездом в армию или на вахту, да даже простым письмом, которое и само не знает, какое оно сильное и страшное. Еще на эту будочку безразлично смотрели штабеля леса, поваленного неподалеку: их привозили на узкоколейке с одной стороны будочки и грузили в большие вагоны на другой. И было много голосов, были песни, смех, всхлипы, белые платочки, тугие гимнастерки, а теперь будочка одна и обходчик для нее тоже один. А неподалеку от поста была деревенька, жившая лесом и подворьями, с обелиском павшим воинам, школой и больницей, не без тягот, но счастливая. А остался в живых только домик обходчика, выстроенный когда-то в прошлом веке, когда эта должность была важной и нужной, а на работу сюда стали присылать людей из города, у которых своей избы в деревне не было. Помнил ли этот домик всех людей, которым давал кров в своей жизни? Наверное, нет: слишком коротка жизнь человека, слишком незаметна жизнь обходчика, чтобы такой булыжник истории посмотрел на него с чувством.
Ныне в будочке пылилась самодельная дрезина с сердцем от мотоцикла — наследство от прошлого обходчика, тележки, мешки с песком, колышки и молоточки, а в «красном углу» — целый музей из находок каждого обходчика: гвозди и нашлепки с датами замены рельсов, ржавые и не очень подстаканники, болты, гайки и старющий семафор ручного управления. Иван Степаныч уважительно поглядывал на все это великолепие прошлого, но из своего кармана к коллекции за все пять лет прибавил только одну нашлепку, не отличившуюся особым возрастом среди собратьев, да один почти современный детский билет — почти расплывшийся, хотя и лежавший в клеенчатом мешочке.
Правда, однажды Иван Степаныч нашел вещицу поинтереснее — колечко, по-видимому, бывшее когда-то золотым или золоченым, но от времени позеленевшее и утратившее свой единственный камешек-куполок. Ивану Степанычу нравилось думать, что какая-то прелестная девушка выбросила колечко в окно, когда невзначай узнала об изменах своего возлюбленного, и было это, конечно, еще до революции, когда девушки предпочитали вышивать, петь романсы и падать в обмороки, а не строить БАМ. Возлюбленный тогда должен был горевать и уехать на Кавказские воды, а лучше в Италию, и через много лет встретить ее вновь — сохранившую «остатки былой красоты» и прекрасную талию — и понять, как сильно он ошибся в молодости, предпочтя ей другую. Но колечко уже выброшено, и кто-то найдет его только через много лет. И в этих полувзглядах, полувздохах и полужизни Иван Степаныч видел как раз-таки жизнь настоящую, красивую и благородную, поэтому колечко носил всегда с собой в одном из карманов рабочей формы.
Захватив в будочке пару молоточков на длинных рукоятках да матерчатую сумку с деревянными колышками, Иван Степаныч вышел в обход. Обычно летом он начинал его часов в семь-восемь, когда солнце уже начинает припекать, но в лесу еще прохладно, а местами, в тени или густой траве, и роса не успевает просохнуть. Сначала нужно обойти маленький аппендикс узкоколейки — до леса и обратно, километра три в одну сторону выходит. Большой обход этой вспомогательной ветки делается раз в месяц, хотя в управлении поговаривали, что скоро снова приедут валить лес, и тогда прибудут настоящие ремонтники, а им подавай план починки на всю трассу под ведомством Ивана Степаныча. Правда, поговаривать-то поговаривали уже не первый год, почти с самого приезда слышал он эти «поговоры», думал: вот жизнь-то начнется, возрождение глубинки, ренессанс, но, кажись, не тут-то было. Ну, оно и к лучшему даже — в деревне из одного дома своих забот по горло, успевай только курей гонять, да траву косить, а на зиму еще и дрова готовить придется.
В общем, долгий обход узкой дороги проводился Иваном Степанычем не раз в месяц, а раз, пожалуй, в год, когда нападала на него страсть к блужданию, столь характерная для местных, столь похожая на ту заповедную утраченную жизнь, от которой осталось только тоскливое позеленевшее колечко. Накануне напасти Иван Степаныч ходил обычно сам не свой, не знал, куда себя пристроить и много читал чего попало: детективчики на один зуб с яркой обложкой, пошленькие романчики, зоновские истории. Больше всего Иван Степаныч ненавидел книгу «Я вор в законе на зоне» за его почти ямб в названии, которое крутилось бы в голове весь день, если только попадется на глаза проклятущая книжонка. Все это, конечно, привез в дом обходчика кто-то из старых, а сам Иван Степаныч захватил из старой своей квартиры только одну книгу — дочерины школьные «Записки охотника». Очень скоро оказалось, что, хотя и отвечает эта книга быту обходчика как нельзя лучше, получается все-таки жизнь в слишком тонких материях, на слишком чистых вибрациях, и выдерживать это нет никаких сил. Поэтому и началось планомерное изучение воровской агиографии, а также перипетий раскрытия надуманных дел и развязывания любовных узлов. Эта уникальная в своем роде какофония на какое-то время заглушала странные голоса, то куда-то звавшие, то за что-то распекавшие, то о чем-то молящие. И страшно хотелось жить ему в эти моменты, плакать и смеяться громко и сильно, падать перед кем-нибудь на колени и благоговейно — именно так! — взирать на луга, леса, лица и дороги. В конце концов оставался один выбор: бутылка или дальний обход. Предпочтение обычно отдавалось последнему, поскольку своей бутылки про запас Иван Степаныч не держал, допивая при случае все до последней капли, а идти в ближайшую деревню все равно что идти в обход.
Так было и в этот раз. Разве что, вместо истории про вора Иван Степаныч сел накануне за кроссворд, хотя и знал уже, что время блуждания пришло, что зовет дорога и надо встать и повиноваться, и была в этом какая-то своя прелесть, было какое-то свое служение — правда, пока еще не совсем искреннее и чистое из-за осознаваемой прелести.
Что ж, вышел из будочки по жаре. Можно было бы взять дрезину, мотануться туда-обратно, а потом и на основную дорогу сходить, да коптит она сильно, душит все вокруг, а для блуждания это совсем не подходит. Пошел пешком. Пути кое-где совсем позаросли густой осокой и спорышом, из-под самых рельсов поднялся молодой боярышник, но сами железяки и шпальные деревяшки еще были целы и хороши. На действующих дорогах это все зеленьё выкашивается самими вагончиками, изредка надо убрать разве большие кусты, хотя обыкновенно они и не успевают вытянуться, а здесь всему приволье без человека, шума и копоти. Чуть подальше справа потянуло болотом, заквакали лягушки; раньше местные резали там торф для своих печей, а сейчас туда и подойти будет сложно — полные калоши грязи наберешь, а стрелу царевича и не отыщешь.
Иван Степаныч дошел до развилки, по-уставному простучал рельсы, вручную перевел единственную стрелку — все работает. Даже старый семафор с прошлого года как будто не обветшал более, надо было, пожалуй, его подкрасить, да бог с ним, кому тут дорогу указывать — белкам разве? Пусть так стоит, а приедут лесовики, так сами себе и семафор, и дорогу наладят.
Он присел на лавчонку около бетонных крошащихся подстилов, раскурил «Петра» и задумался. Тоска блуждания не отпустила — придется и на большую дорогу идти, а траву во дворе будет косить завтра. Послушал птиц. Никогда особо их не различал, но сегодня одна пела как-то высоковато и слишком протяжно, даже жалобно, нерадостно, и стало немного не по себе. Из леса тянуло холодом, хотя весь он сквозил золотом на солнце и довольно потрескивал от старости и изобилия. Великий лес — ни больше, ни меньше. Иван Степаныч достал из-за пазухи колечко, повертел его, надел на мизинец, потрогал, снял, рассмотрел каждую ножку для отсутствующего камушка и подумал: «Вот он я — то ли камушек, а то ли колечко без него». Усмехнулся своей мудрости, высморкался и пошел обратно.
Пока он шел обратно к будочке, стало совсем душно. Болотная сырость смешалась с запахом прошлогодней травы между рельсами, и при каждом шаге из-под ноги вылетало небольшое, едва заметное облачко пыли, которая обычно прижата свежей травой или росой с нее и не высовывается. А тут повылазила вся — ишь ты, подишь ты. Иван Степаныч мысленно ругал пыль, духоту и вонь, сам не зная, почему сегодня его это особенно раздражало.
Дошедши до будочки, он опять покурил, но уже не раздумывал; поглядел на свой домишко издалека, сосчитал кур на дворе, потеряв одну и не заметив этого, и отправился на большую дорогу.
Дорога эта знаменательна была не тем, что вела к глухой мертвой деревеньке или в былые годы высасывала из нее лес, а тем, что состояла практически полностью из моста. Такие протяженные и высокие мосты строили обычно над большими или глубокими реками, но речка Суховейка такой не была, а роскошный мост достался ей в подарок за очередную «пятилетку в три года», когда делать что-то надо было, а делать уже было нечего.
Иван Степаныч шел к мосту бодрясь, старательно не замечая усиливающегося ветра, все больше холодеющего при приближении к реке. Он шел и мысленно перечислял прошлые и будущие дела свои, прикидывал, когда лучше сходить в деревню за продуктами, чтобы заодно позвонить детям с магазинного телефона, сколько гречи взять себе в этот раз. Или, может, перловки попробовать? С армии, кажется, ее не ел. Есть — это вкушать. Вкусите кровь и плоть мою… Все перемешивалось в голове у Ивана Степаныча, а он был этому рад, потому что не слышал назойливых голосов, которые напоминали ему о странном сне с птицами и синими косичками. Ветер крепчал, и в духоте уже начали подниматься с горизонта зеленоватые тучи, подсвеченные сзади послеполуденным жарким солнцем.
Придя к реке, Иван Степаныч сильно удивился. Суховейка за лето располнела и стала походить на настоящую русскую барыню-реку, а не на побегайку, которой была даже весной, когда все остальные реки набирают силу. Он смотрел на берега и не узнавал их, смотрел на мост и пытался вспомнить, как выглядел он в прошлый раз. Вроде так же. Почему ж тогда речка другая? Он взошел на мост и зачем-то свистнул. Свист пролетел через весь мост, споткнулся о лес на том берегу и вернулся обратно, немного испуганный и сильно ослабевший. Иван Степаныч пошел по мосту, все смотря через облезлые перила на реку, ставшую вдруг такой значительной и даже страшной. «А что будет, если сигануть? Да ничего – бултых, и готово. Ну страшно как-то. Ну страшно». Начало накрапывать. Ивану Степанычу стало казаться, что и дождь тут взялся оттуда же, откуда взялась вода в Суховейке, то есть откуда не надо браться. Ему стало казаться, что дождь хочет смыть его в реку, потому что он подумал, что прыгать с моста будет страшно.
Одиноко. Как-то страшно одиноко стало Ивану Степанычу среди великой природы, спокойной реки и человечьего моста. Он присел на бетонный выступ сваи и закурил вновь. Почему-то почудилось, что мост может вдруг устать его держать и лечь в реку. Он представил это и вдруг поднялся, сам лег между рельсов, где в ложбинке уже начала собираться дождевая вода. Страдание мое чисто и безвинно, пусть не будет в нем стыда, уважайте чужое страдание…
…Он вспомнил, как ушла мать. Он не успел с ней попрощаться: ехал, летел, опять ехал, но не успел. Так ведь всегда бывает, да? Всего не выскажешь, даже посмотришь уже с другим чувством. Сестры на коленях плакали, иногда вскрикивая, позже чуть успокаиваясь и снова вскрикивая. А он стоял с нетвердыми коленями и чувствовал, как ресницы впиваются в веки — так широко от ужаса распахнулись глаза, он стоял и смотрел на изменившееся ее лицо и не мог понять, как жизнь его так нагло обокрала, обманула. В голове всплывали какие-то пошлые фразочки, не то отрывки откуда, не то настоящие его мысли: «жизнь раскололась на до и после», «тысячу раз спасибо, тысячу раз прости». И все это была правда, даром что это была и пошлость — просто обычно этому не веришь, но на границе все оказывается именно так. Казалось, вот-вот она задышит и все станет, как прежде, но так уже никогда не стало, и в какую-то из ночей он перестал просыпаться в слезах, потом перестал считать месяцы, прошедшие с того дня, потом уехал на дорогу, просто курить стал больше обычного. И все как будто подернулось туманом: и розы в оградке, и пахучая черемуха, и комната с желтой лампой, и одноухая кошка, ушедшая жить к соседям. Жизнь, так сказать, вошла в колею. А вину кому оставил, Иван Степаныч?
Он вернулся домой продрогший и как будто пьяный, как будто чистый, но тяжелый-тяжелый. Куры сами сбились в стайку и недовольно клевали пустое деревянное корыто, в котором обычно находили дробленку. Иван Степаныч согнулся и вошел в клетушку, сел на куриный помост, отодрал край бумажного пакета и насыпал корм. Птицы закудахтали и принялись неистово клевать, а одна, забывшись, начала щипать штанину Ивана Степаныча. Он взял ее на руки, гладил и смотрел на остальных. «Бедная моя, глупая птичка, птичка-синичка, курочка маленькая, страшно тебе, наверное», — курица выпросталась из его рук и смешалась с другими. «”Иван” значит “Бог помилует”», — он сунул руку в нагрудный карман, достал колечко, вышел из закута и, размахнувшись, бросил колечко далеко-далеко.
Ксения Гутова — студентка четвертого курса специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ, мастерская Вячеслава Алексеевича Суханова