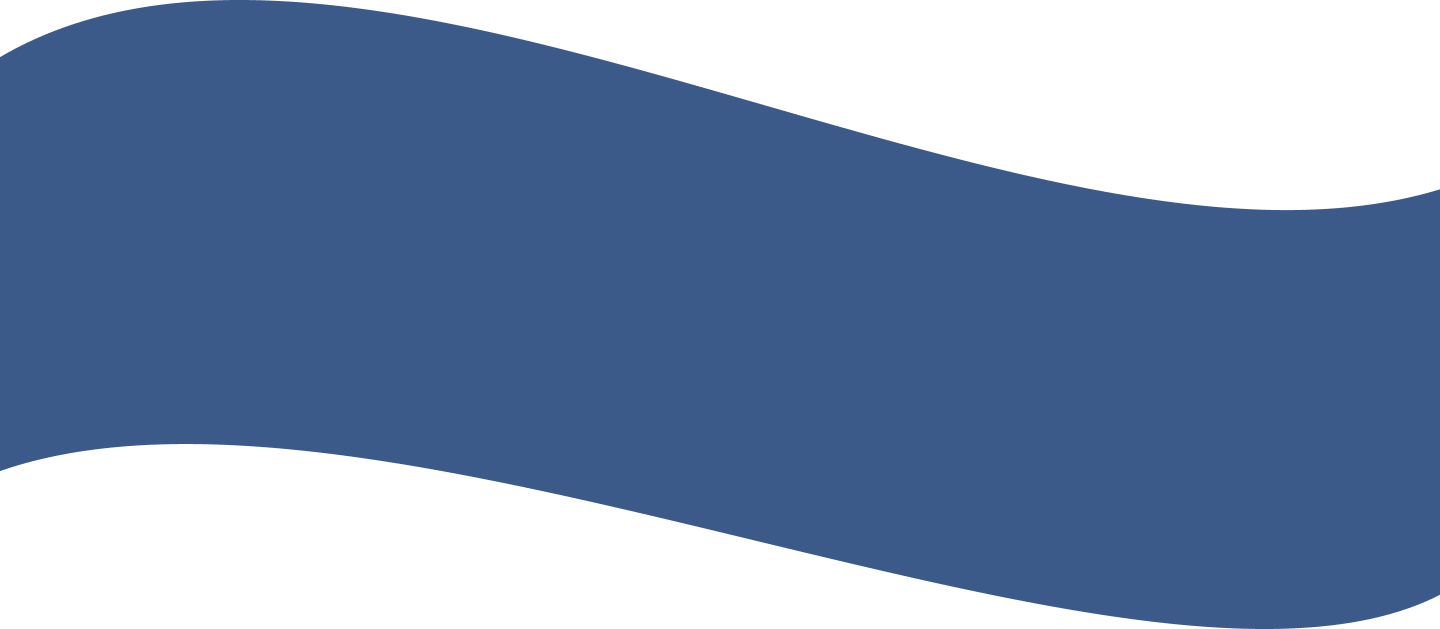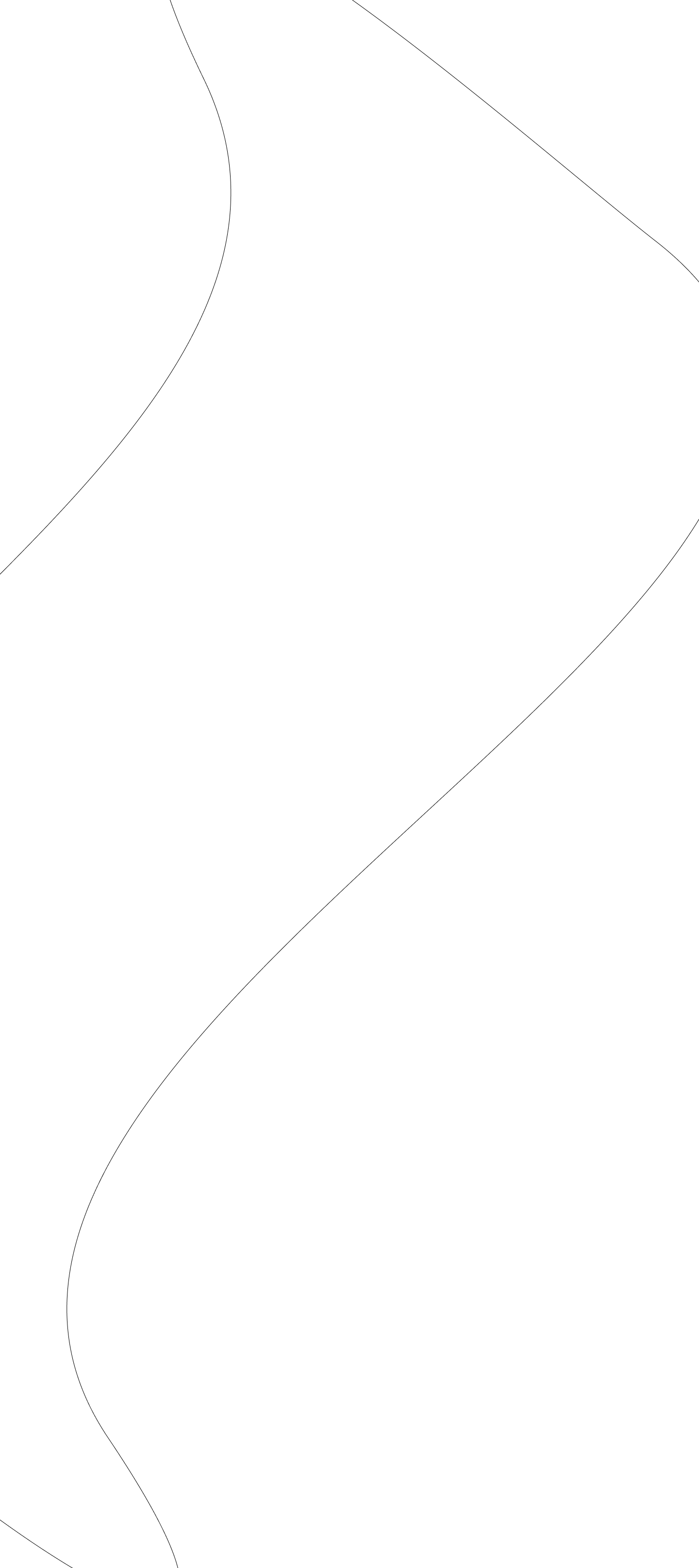

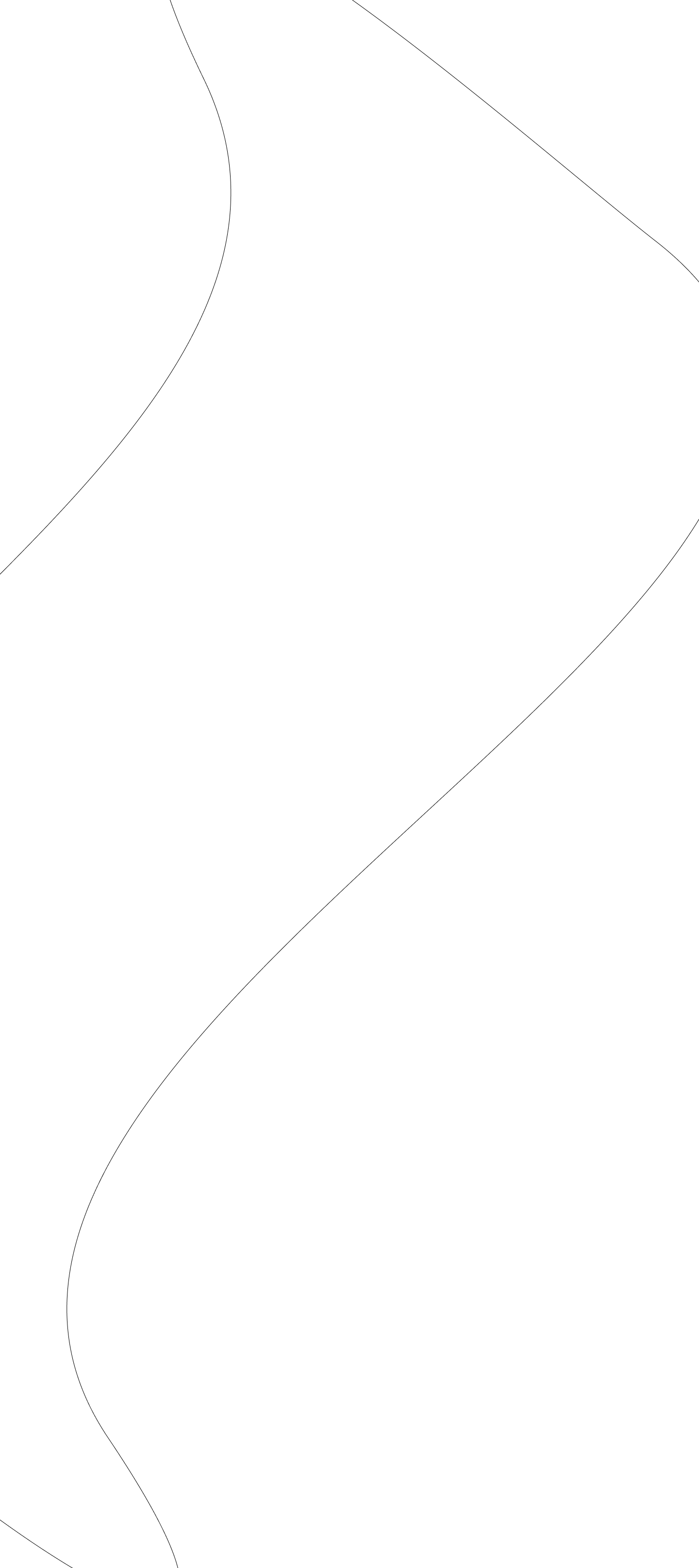

к проблеме сознания в романе «KGBT+» В. Пелевина
Калу Ренпоче
Этим вопросом задавались люди столько, сколько существует цивилизация: человечеству всегда казалось, что над основными процессами мира стоит нечто неизведанное и большое, «великая тайна», просто все давали этому своё определение, тем самым навешивая многочисленные ярлыки, якобы объясняющие механизм мира. Не могу их винить – нашему мозгу свойственно пытаться организовать хаос информации, поступающий из внешнего мира, в нечто понятное, отсюда столько концепций, что такое сам мир и кто мы в нём.
«Платон считал, что окружающие человека вещи – зыбкие тени вечных сущностей. <…> Для [Будды] изобилие жизни скрывало за собой пять групп феноменов... <…> Для Ницше сострадательная мягкость христианства маскировала древний ресантимент и попытку порабощения человеческой души. <…> Для Фрейда всё многообразие культуры и табачной промышленности скрывало под собой работу могущественных сексуальных инстинктов.»
Все эти концепции, созданные в разные исторические периоды, имели одну цель – объяснить, чем является реальность вокруг и что влияет на наше сознание, от биологических инстинктов до заключения о полной эфемерности «реальности». И вот с начала 90-х у России есть Пелевин Виктор Олегович, который посвятил всю свою писательскую карьеру поиску и изложению ответа на эти непростые вопросы.
В литературных (да и читательских) кругах давно ходит тезис, что он с 90-х пишет одну и ту же книгу: Быков говорил о «писательском анонизме», Forbes в разгромной статье на его последний роман начинают её с заголовка «почему Виктор Пелевин четвёртый год пишет книги об одном и том же» и т.д. Единственная разница в сеттингах и именах. но определённые мотивы остаются неизменными: герой как воплощение определённого социального слоя, мудрец-наставник, опасная красотка, и всё это на фоне повисшей над пропастью если не России, то всего мира, в котором герой пытается нащупать опору. Всё это есть и в «KGBT+», ровно, как и ответ на вечный вопрос «как стать свободным» (с этого же и начинается история Кея: «Как прийти к окончательному финансово-творческому успеху», потому что деньги, это, как известно, свобода, а творчество – духовное удовлетворение). И всё же, давая нам ответ, Виктор Олегович зачем-то продолжает писать. Не буду решать за него, но как он сам это выразил через Кея: «Понять это [учение] в теории просто, но научиться внутреннему балансу на практике сложнее». Поэтому из романа в роман он и повторяет «истину», пока та не «вобьётся» в наши головы; именно для этого и написан «KGBT+» (2022).
Вся первая часть романа, озаглавленная «Дом Бахии» посвящена объяснению пелевинской концепции сознания, можно сказать выступает теорией к его миропониманию. Мемуары KGBT+ (авторский никнейм) в этом случае являются переходом к прикладному использованию изложенных ранее принципов. И хотя взаимосвязь двух текстов при таком взгляде становится понятна, поначалу «Дом» кажется отдельной повестью, просто приложенной к основному повествованию, и это не далеко от правды: у Пелевина внутри книжной вселенной существует объяснение, как главный герой нашёл этот текст и распечатал его в виде брошюр, поэтому изложенная в ней история буквально является инструкцией к достижению «освобождения».
Содержание этой инструкции можно свести к следующему:
«В увиденном только увиденное. В услышанном – только услышанное. В ощущаемом – только ощущаемое. В осознаваемом – только осознаваемое.»
И более расширенное:
«Нет ни субъекта, ни объекта. Есть только непостижимые изменчивые феномены, озарённые собственным светом... <…> Это значит, что [феномены] появляются не в сознании человека, как учит западная мысль, а сами есть сознание, полностью лишённое наблюдателя и хозяина.»
Это крайне сжатые формулировки того, чему Будда учил Бахию, древнеиндийского йогина, который по достижению понимания этих принципов мироустройства является в воплощении монаха-профессора на поле Второй мировой и передаёт это знание дальше, японскому солдату Сасаки. Эта часть – лишь крупица той пищи для размышлений, которую Бахия (и по совместительству сам Пелевин) даёт Сасаки (читателю) в первой четверти всего романа. Если пробовать давать расширенный комментарий, чего сам Бахия делать не советует, ибо всё (даже личность) является «набором внутренних комментариев к восприятию», то суть этого учения заключается в том, чтобы не соотносить себя с происходящим вокруг. Это не означает полную пассивность – об этом другой герой скажет:
«Борешься – борись на здоровье. Но если ты хочешь быть при этом счастлив и свободен, не думай, будто этой борьбой занимаешься ты. <…> Это мир трется сам о себя.»
Речь именно о понимании ирреальности происходящего и формировании другого отношения ко всему. Обычно мы считаем, что все наши ощущения, переживаемые от взаимодействия с физическим миром, существуют на самом деле – думая так, мы оказываемся рабами этого мира, потому что не мы решаем, как реагировать на то или другое явление. Вместо этого мир диктует нам, что чувствовать и что делать, иначе говоря «манипулирует» нами. Цель буддизма указать на этот факт, чтобы человек через понимание смог уже в свою очередь подчинить окружающий мир. Сасаке не сразу понял эту мысль, поскольку в его секте учили всё воспринимать как «пустоту», и потому ощущений, ровно как и предметов, вызывающих их, нет по природе, что не совсем так: если вас укусила собака, вы не будете себе говорить, что её зубов не существует, потому что она просто воздух, который ваш мозг на секунду принял за собаку. Страдание есть всегда, как и другие переживания, будоражащие наше сознание. Это можно сравнить с принятием пищи: для всех людей она будет ощущаться одинаково, но француз может задумать, добавили ли сюда достаточно специй, русский уже сейчас будет планировать, где найти еду на завтра, а немец будет ругать повара, что тот не проварил мясо. Все эти реакции – комментарии и проявление личности. Отказываясь же от комментариев (рефлексии), мы растворяем личность (эго) и связанные с ней страдания. Как следствие «я» умирает, оставляя только само сознание, которое подобно лучам в призме игриво преломляет все явления.
Именно это и является главным принципом в буддизме, следуя которому человек достигает освобождения.
По легенде, когда Бахия получил эту «инструкцию к просветлению», его убила корова с теленком – не буквально, это символ: корова – старая жизнь, телёнок – новая, рождающаяся из прошлого. То есть метаморфоза, и по сути то, что было Бахией, просто растворилось, оставив оболочку позади, поскольку сознание больше не цеплялось за «я» этого времени и места. Тоже самое хочет провернуть и Сасаки: ему надоело сидеть в грязных окопах Второй мировой, находиться в этом нескончаемом кошмаре, создаваемым миром.
«Я хотел уйти в счастливый сон, в реальность, где исчезает грань между действительностью и мечтой.»

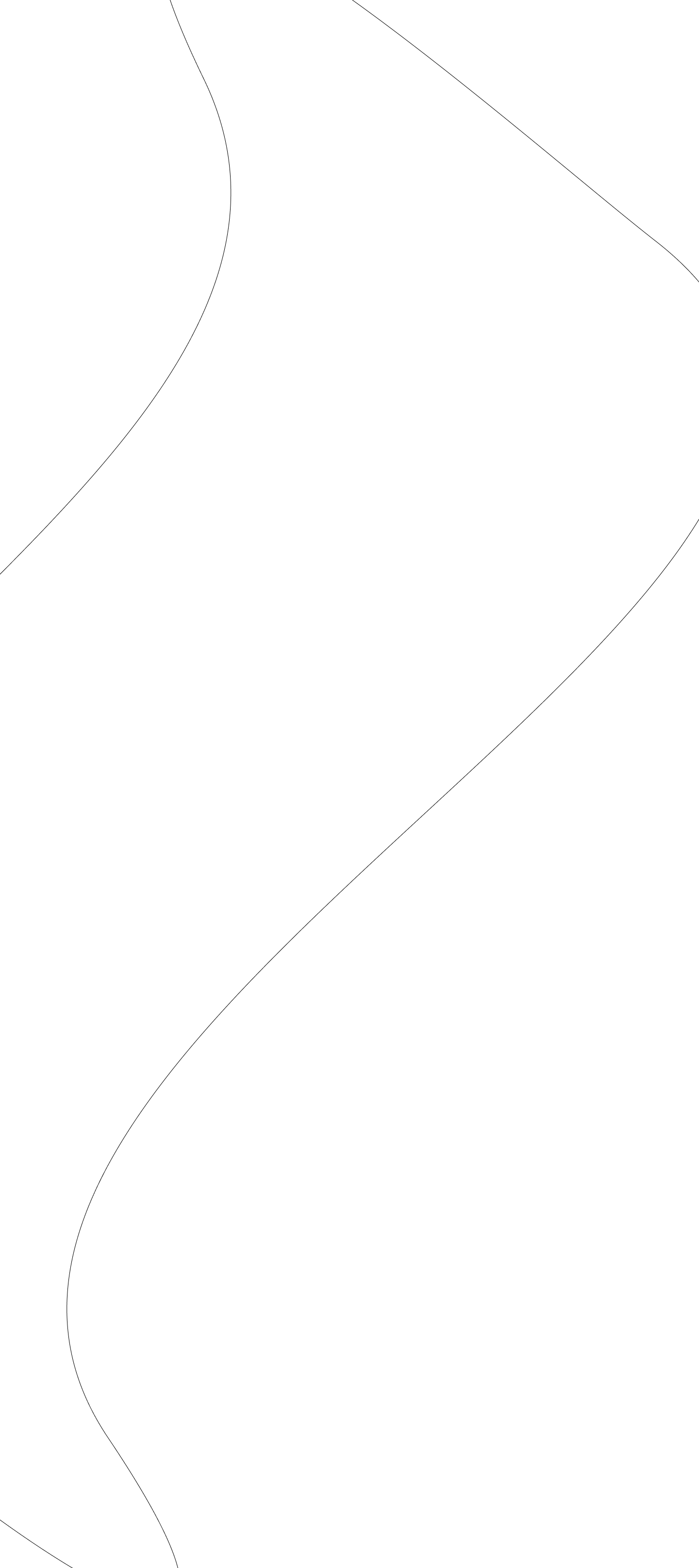

***
...перемещаемся в новый, но не такой уж и дивный мир. Это тёмные времена для человечества, пропитанные едкой сатирой Пелевина над нынешними тенденциями в обществе: феминизм превратился в крайне сексуализированный матриархат (даже не спрашивайте про «фембокс» или «нейрострапоны»), от музыки остался только крэп и вбойка (о них чуть позже), интернет-сленг закрепился в речи (многочисленные в романе «мемы» – не приколы, а авторские изречения), политический дискурс по-прежнему разворачивается между Западом и Востоком (причём Россия будущего выглядит как никогда дикой и одинокой в мире победившего трансгуманизма), а люди живут на две реальности – материальную и сетевую.Концепция такого мира развивалась у Пелевина достаточно давно – уже в 2017-м в романе «IPhuck10» появляются зачатки ИИ, а главный герой той книги Порфирий Петрович после вернулся в «Путешествии в Элевсин» (2023) – третий в цикле романов о мире Transhumanism Inc. Рассмотрим устройство этого мира поподробнее:
На дворе третий век прекрасной Зелёной эры (Green Power), карбон же остался далеко позади (так в книжной вселенной называют 21-й век). Технологический прогресс имеет свои недостатки, однако жизнь разделилась на до и после с появлением технологии, позволяющей человеческому мозгу после смерти физического тела существовать в новом виртуальном мире. Живые мозги живут в боксах, которые в народе именуются банками, и чтобы достичь кибербессмертия нужно купить это место, а оно конечно же очень дорогое. Причём есть несколько уровней (таеров) этой симуляции, от одного до девятого, где на первом мозги хранятся до тысячи лет, после чего утилизируются, а на девятом отдыхают «властелины мира»: криптомагнат Барон Ротшильд и правители государств. Однако настоящая власть принадлежит фонду «Открытый Мозг», являющегося дочерней компанией Transhumanism Inc. Сам же человек модернизировался: теперь в его голову вживляются чип-имплант (в простонародье «кукуха»), подключающая того к сети и позволяющая качать в голову, что позволено.
По сути в мире будущего идёт борьба за влияние на человеческое сознание, и расстановка сил выглядит примерно так: Transhumanism (мировое), сердоболы (локальное, политика) и вбойщики (искусство). Разберём мотивы каждого по порядку.
Как было сказано выше, Transhumanism правит этим миром, поэтому им выгодно закачивать в голову людям определённую программу: покупай то, составляй такое-то мнение об этом и прочее. Они, как корпорация, заинтересованы в покупательской способности населения Земли, чтобы те копили на «банку», иначе говоря зарабатывают на главном страхе человечества – страхом перед смертью. Но, если вспомнить учение Бахии, то мы поймём, что условная матрица не становится спасением: первым таерам приходиться также работать, чтобы окупать собственное место «на полке», в то время как само существование, пусть и в виде плавающих в банках мозгов, продолжает страдание, даже если нет органов чувств (переживания всё равно ведь подают в голову электрическими импульсами). Можно сказать, что в образе этой корпорации Пелевин заключает символ едва ли не бога, или по крайней мере модель самого мира. В какой-то момент один из персонажей высказывает достаточно дикую, но вполне возможную мысль:
«Если вы читаете современных философов, они утверждают, что все наши мысли – это боты TRANHUMANISM INC.»
тем самым указывая на факт если не полного контроля мыслей людей, то по крайней мере присутствия в их голове. В некоторые моменты Кей даже отмечает, что все «инфоповоды» в прессе, выступления вбойщиков против «Открытого мозга» и прочая деятельность, направленная против корпорации, есть просто игра Transhumanism’а с самим собой. Это похоже на одно из главных положений буддизма, согласно которому все существа являются проявлением одного ума, играющего с самим собой. Нечто похожее Кей и скажет ближе к концу истории:
«Мне правда неинтересно, как другие сумасшедшие размазывают говно по забору – тем более, что это не их говно, а "Открытого Мозга".»
Сердоболы – правящая партия Доброго государства (бывшая Россия). Они гнут свою, неизменившуюся за столько веков линию, и именно с взаимодействием политики сердоболов и «Открытого мозга» связана интересная деталь о сознании в этом мире. Раскрывается она на примере главного героя – ребёнком родители назвали его Саловатом, что заключало в себя двойной смысл:«Отец, человек прогрессивных взглядов и член секты «Свидетели Прекрасного», любил сало – как и всё, ассоциативно связанное с волшебным светом Европы. Но ему слишком нравилась «вата», как на Руси когда-то звали обскурантов, ненавидящих либеральную повестку. Мама же была в молодости сердомолкой <…> и с ней всё обстояло наоборот. Слово «вата» она с охотой примеряла на себя. А вот «сало» было для неё ругательством.»
Наконец, есть вбойщики. Этимология здесь максимально буквальна – это человек, который внушает, вбивает идеи и мысли в головы других. Вы закономерно можете сказать: «До чего же удобная штука! Любое правительство будет радо использовать такую технологию в своих (понятно каких) целях» и будете правы, но, как отмечает вбойщик, чьи мемуары мы и читаем:
«Если бы сердоболы могли штамповать вбойщиков для своих целей, они делали бы это постоянно, чтобы держать под контролем молодые умы. А такого что-то не видно.»
Как понимаем, здесь Пелевин продолжает вечную тему взаимодействия художника и власти. Художник – человек, который способен посмотреть на мир под другим, неестественным углом, переосмыслить бытие и дать такую точку зрения, которая будет идти вразрез с любыми постулатами правящей верхушки (будь она людьми в костюмами или самой природой. В случае вбойщиков этот другой взгляд оказывается возможным, поскольку правительство частично отключает их от обычной жизни и позволяет уходить в те дерби человеческого сознания, куда среднестатический человек при всём желании не сунется (во-первых, время не то, чтобы задавать вопросы о мире, о которым «мы знаем ровным счётом ничего», а во-вторых слишком уж притягательна сансара, в честь которой назван отдельный аттракцион в банке). Сердоболы и «Открытый Мозг» дают возможность свободно мыслить вбойщикам, иначе те не могли бы творить. Делается это конечно из гуманистических побуждений: та или иная сторона хочет, чтобы поэты закладывали в головы масс определённые смыслы, соответствующие нынешней повестке, и даже готовы их щедро поддержать, снабжая передовыми технологиями или бюджетом. Но даже так вбойщики делают что хотят:
«Нам дадут технический ресурс. Ещё нам дадут многомного денег. Мы их возьмём, но заниматься будем совсем другим. <…> Творчеством. Искусством. Настоящим искусством. Они, – он ткнул пальцем вниз, – будут считать, что мы работаем на них. А мы с тобой будем служить знаешь кому? <…> Апполону.»
Эти слова были сказаны продюсером Кея и других вбойщиков Люсифёдором. Хоть он и не является мыслителем, поскольку всё-таки привязан к материальной стороне жизни и играет в «игры» «Открытого мозга», в его суждение закралась глубокая мысль: всё, что большие корпорации или любой другой, находящийся над нами, хотят от нас – не важно; важно лишь занятие искусством, потому что оно вечное и даёт человеку ощутить крупицу свободы.
Вбойщики занимаются мифотворчеством: образ, имя и т.д. Они выбирают нишу и аудиторию (свидетели), продвигая, а в какой-то момент и проповедуя большому кругу слушателей свои идеи, внушая, что те сами дошли до подобных умозаключений – подобный процесс передачи brain2brain и называется «вбойкой». И хотя суть вбойки заключается в воздействии на человека, их главная цель – развлечь его, вызывать определённые чувства и мысли. Кто-то, как TRex, вводит своих слушателей в состояние первобытного страха, воздействуя на рептильный мозг, кто-то продвигает фемистскую повестку или призывает ставить прививку (по заказу самой Transhuminsm Inc.), и только Кей решает использовать этот метод внушения, чтобы указать людям путь к счастью. Жизнь, которую проживает Саловат, ставший в последствии легендарным KGBT+, прослеживается история наставничества: сначала Кей ведомый, слушает Фёдора-Люсика (своего продюсера), как выжить в шоу-бизнесе и достигает материального благополучия; с появлением в его жизни маяка Сасаки открывает духовный путь, и после этого, сформировав своё миропонимание, превращает вбойки не в развлекаловку, а в проповеди. Развитие «авторской мысли» можно проследить по текстам вбойки: сначала это отработка гос. заказа или повестки (агитирует за вакцинацию и т.д., проще говоря апеллирует к идеалам трансгуманистов), постепенно переход в категорию универсального (размышляет о смерти Бога и первородном хаосе, в котором все мы живём), пока наконец не доходит до «летитбизма», вдохновлённого учением древнего «жука» Пола Маккартни и господина Сасаки.
Именно «летитбизм» и становится квинтэссенцией учения Бахии и ответом Пелевина на вопрос как жить в наше время: чтобы не происходило вокруг, нужно просто позволить этому быть (буквальный перевод «let it be»), не цепляться за переживания и просто находиться там, где ты сейчас. Этот подход и помог Кею в его баночном заключении и творческом пути, хотя он сам признаёт, что жить с таким образом мыслей нелегко – сильны привычки сознания, считающие, что простынь, сушащаяся на заднем дворе, это птица, готовая на вас напасть, если вспоминать аналогию Сасаки. Однако именно это помогает человеку выжить в век симулякров и вторичности – как сам описывает Кей, суть его учения заключается в следующем:
«Не будь ослом, едущем на осле. Не мешай этому миру, но и не помогай. Даже когда мир действует через тебя.»
«Прошло много лет. Меня больше не было ни между кипарисом и ногой, ни между ногой и песком, ни даже в особо рискованной зоне между песком и кипарисом. А если кто-то и норовил высунуться, то за себя я его уже не принимал.»
И хоть до конца и не ясно, действительно ли Кей/Саловат был когда-то господином Сасаки, а тот японцем 40-х годов 20 века – даже помещённый в начало романа текст «Дом Бахии» не даёт точный ответ, кто является сном другого, – но подобная установка на мышление по задумке Пелевина должна помочь человеку обрести ориентир в мире, который и так уже начал двоиться: сначала с приходом Интернета, а потом и нейросетей.