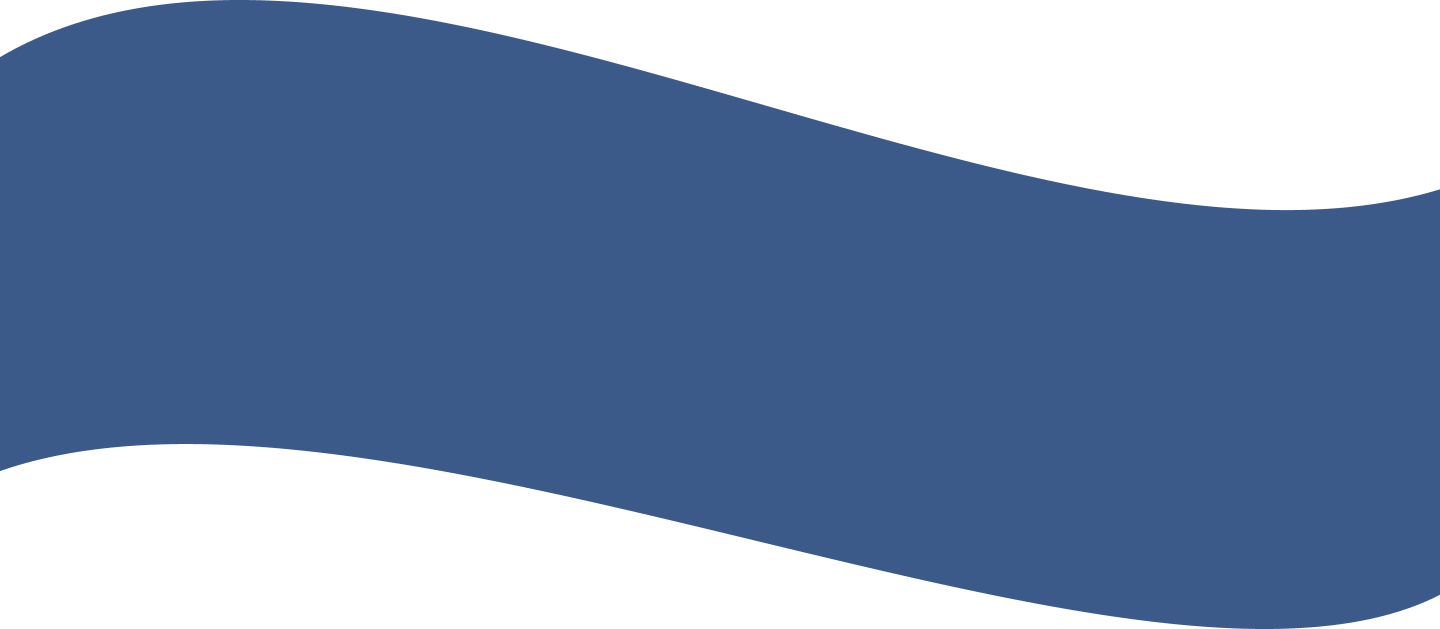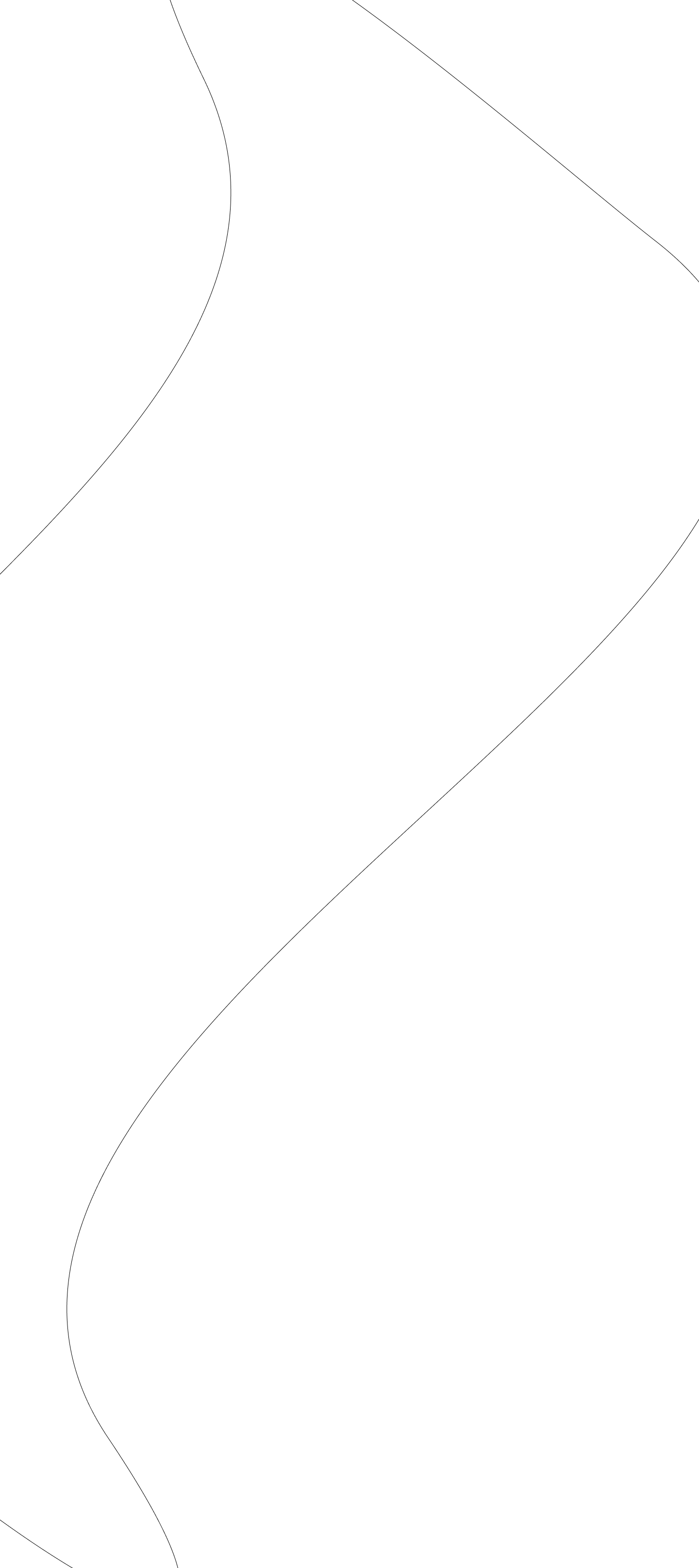

11.03.2025
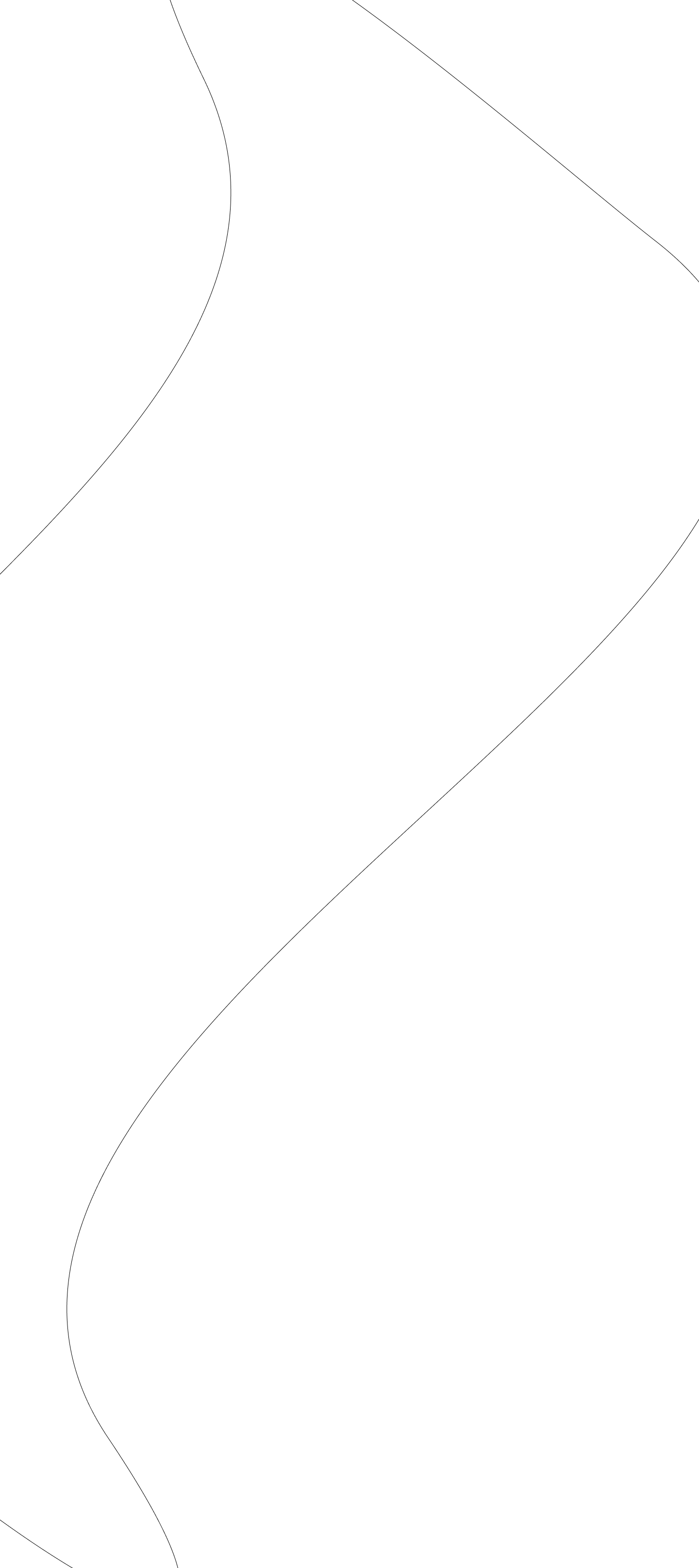

«…НЕ ХОЧУ БЫТЬ ШУТОМ НИЖЕ У ГОСПОДА БОГА»:
О фильме «ПРОРОК: История Александра Пушкина»
О фильме «ПРОРОК: История Александра Пушкина»
Что можно было ожидать от фильма, в котором роль «нашего всего» сыграл Юра Борисов, до этого отметившийся разве что вечно недоумевающим выражением пролетарско-пацанской физиономии, и авторы даже сдержанно-благожелательных рецензий на который то констатировали, что «“Пророк” — продукт своего времени: кино, яркое снаружи и пустое внутри. Самодержец показан не в лучшем свете, а декабристы кажутся вполне приятными юношами — уже неплохо для отечественного блокбастера. А Пушкин что? Боролся, творил, печалился и любил» (М. Ершов, «Кино ТВ»), а то и по непонятным причинам радовались, «что именно сейчас проявилась столь необходимая смелость, позволившая ввернуть в рассказ об одном из главных персонажей русской истории рэп-батлы и вечеринки в стиле “Великого Гэтсби”» (В. Ростовский, «Film.ru / Empire») (впрочем, отчего непонятным? Вестимо, игриво подмигнули и нынешней молодежи, и аудитории более преисполненной, верно, в надежде вернуть кинокритике окончательно утраченное ею значение), завершая это таковым резюме: «…“Пророк” оставляет после себя если не добрую память, то хорошее настроение. Большего от русского кино сегодня требовать и не стоит. Если кто-нибудь придя домой откроет пыльную книжку и прочтет что-нибудь из настоящего солнца русской поэзии — так и вовсе прекрасно» (Я. Забалуев, «Lenta.ru»). Воистину секрет счастья — заниженные ожидания! (Впрочем, с рецензиями экспертов я ознакомился позже, на премьеру же отправился с распахнутым восприятию шедевра Феликса Умарова сознанием и готовым к формированию собственного отношения). Как оказалось, свое мнение составляется почти сразу — в тот самый момент, когда престарелый Державин лихо срывает сюртук, поддерживая бунтарство скандирующих лицеистов. При этом перечислять вопиющие фактические ошибки в фильме, как говорится, «есть тьма искусников — я не из их числа» — оставим это филологам-душнилам.
Главная проблема «Пророка» — не то, что это вольная фантазия «по мотивам» фамилии «Пушкин», в которой об исторической достоверности речь не идет настолько, что к названию нужно было добавить архаически-тяжеловесное пояснение «История Александра Пушкина», чтобы не оставалось сомнений, о ком именно идет речь, а то, что в его глянцевой гламурности нет души. Все показано максимально одномерно, поверхностно, топорно – от раздражающего самодовольством конформиста Жуковского до нелепого в своих попытках быть зловещим Бенкендорфа, от грезовидческого калейдоскопа образов пушкинских стихотворений как метафоры творческого акта до обезьянки, что почесывает Николай I в течение решительного объяснения с Пушкиным; если же это ирония, призванная разрушить освященное веками наивно-школьное представление о Пушкине как об абстрактном «солнце русской поэзии» — на что указывает множество факторов начиная с самой формы мюзикла, препятствующей воспринимать происходящее на экране излишне серьезно, — то Пушкин очевидно заслуживает более изысканного ее воплощения, ибо жил он, согласно глубоко верному замечанию А. Янушкевича, «на высшем градусе, заразительно и так по-человечески понятно, и так таинственно и невыразимо». Несколько удачных эпизодов не отменяют, а лишь оттеняют это.
Итак, есть ли в «Пророке» «природа национального гения поэта, и его “всечеловеческая отзывчивость”, и загадка великого синтеза, и мощь его поэтической традиции, и тайна его дара. И еще обаяние человеческой личности, ее свет» (А. Янушкевич)? Нет. В нем и Пушкина-то нет — есть лишь какой-то парень, «к тому ж поэт», которого играет непривычно кудрявый Борисов; к слову, для последнего роль «человека с солнцем в крови» столь же не аутентична, насколько органичен актер был в прославившей его «Аноре». Гоголь сказал некогда о Пушкине, что «это русский человек в его развитии, каким он, может быть, явится через 200 лет»; два столетия после смерти поэта почти прошли, но не явился даже образ Пушкина в кино.
У каждой эпохи — свой Пушкин. Но и у Пушкина была своя эпоха. В фильме Ф. Умарова если и отражается эпоха, то наша — утратившая представление и о Пушкине, и о его времени.
Главная проблема «Пророка» — не то, что это вольная фантазия «по мотивам» фамилии «Пушкин», в которой об исторической достоверности речь не идет настолько, что к названию нужно было добавить архаически-тяжеловесное пояснение «История Александра Пушкина», чтобы не оставалось сомнений, о ком именно идет речь, а то, что в его глянцевой гламурности нет души. Все показано максимально одномерно, поверхностно, топорно – от раздражающего самодовольством конформиста Жуковского до нелепого в своих попытках быть зловещим Бенкендорфа, от грезовидческого калейдоскопа образов пушкинских стихотворений как метафоры творческого акта до обезьянки, что почесывает Николай I в течение решительного объяснения с Пушкиным; если же это ирония, призванная разрушить освященное веками наивно-школьное представление о Пушкине как об абстрактном «солнце русской поэзии» — на что указывает множество факторов начиная с самой формы мюзикла, препятствующей воспринимать происходящее на экране излишне серьезно, — то Пушкин очевидно заслуживает более изысканного ее воплощения, ибо жил он, согласно глубоко верному замечанию А. Янушкевича, «на высшем градусе, заразительно и так по-человечески понятно, и так таинственно и невыразимо». Несколько удачных эпизодов не отменяют, а лишь оттеняют это.
Итак, есть ли в «Пророке» «природа национального гения поэта, и его “всечеловеческая отзывчивость”, и загадка великого синтеза, и мощь его поэтической традиции, и тайна его дара. И еще обаяние человеческой личности, ее свет» (А. Янушкевич)? Нет. В нем и Пушкина-то нет — есть лишь какой-то парень, «к тому ж поэт», которого играет непривычно кудрявый Борисов; к слову, для последнего роль «человека с солнцем в крови» столь же не аутентична, насколько органичен актер был в прославившей его «Аноре». Гоголь сказал некогда о Пушкине, что «это русский человек в его развитии, каким он, может быть, явится через 200 лет»; два столетия после смерти поэта почти прошли, но не явился даже образ Пушкина в кино.
У каждой эпохи — свой Пушкин. Но и у Пушкина была своя эпоха. В фильме Ф. Умарова если и отражается эпоха, то наша — утратившая представление и о Пушкине, и о его времени.
Евгений Третьяков — доцент кафедры русской и зарубежной литературы Филологического факультета ТГУ