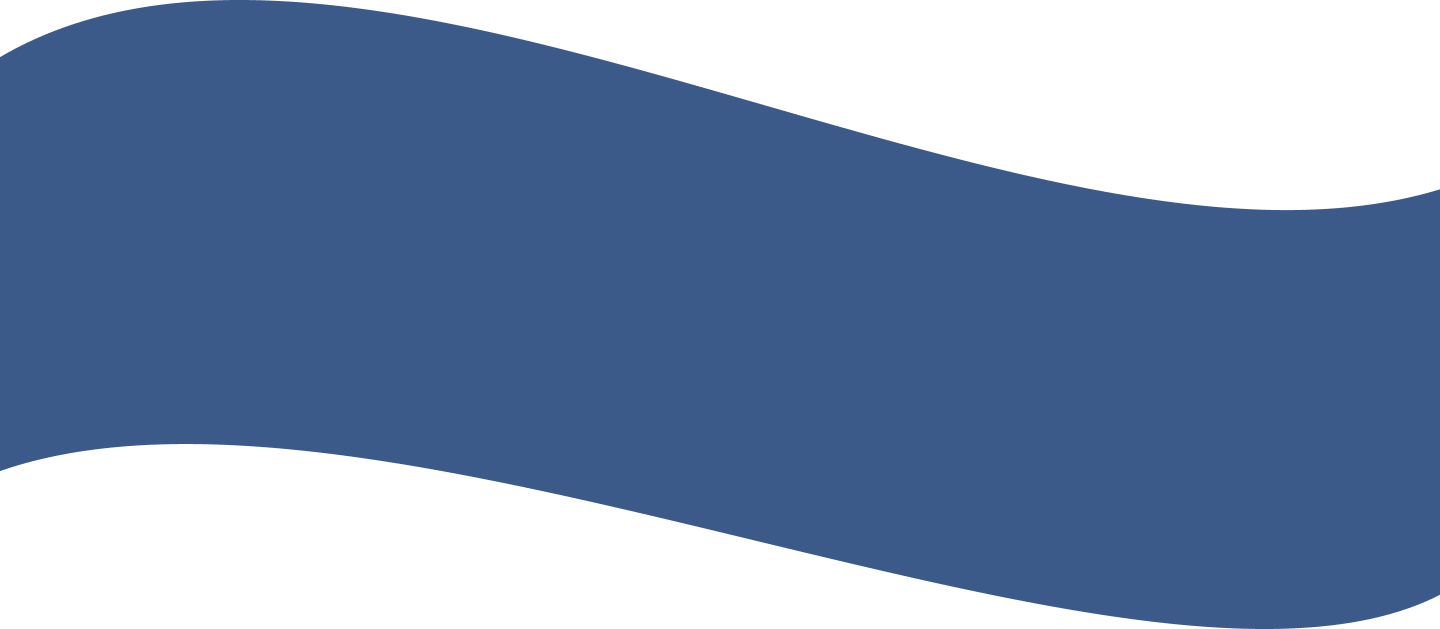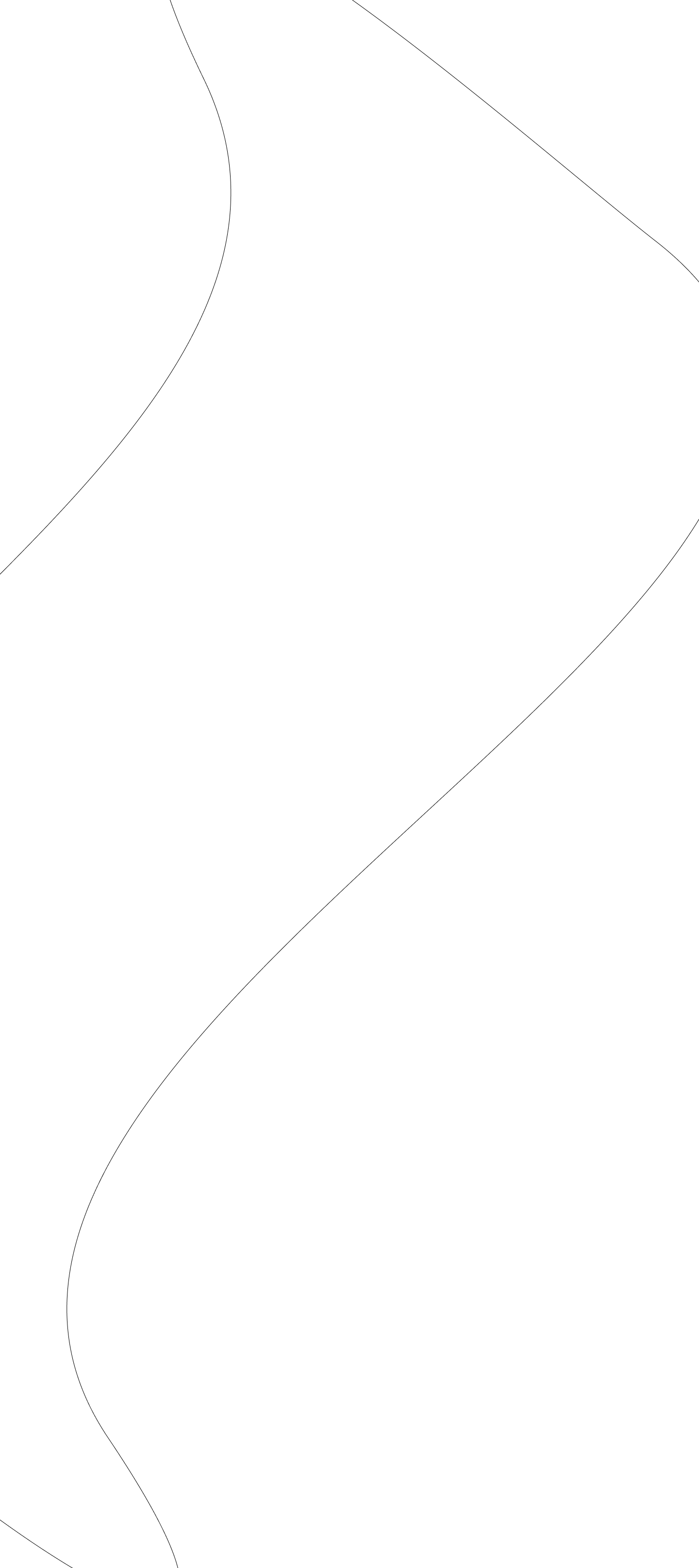

Убивая Бобрыкина руками читателя
Дана Ахмедшина — студентка пятого курса направления «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ (мастерская А.Н. Губайдуллиной)
Состояние перенасыщенности смыслами в современной литературе ставит перед автором необходимость поиска новых форм их выражения. Зачастую даже в прозе форма является одним из смысло– и сюжетообразующих элементов, связывающих текст в единое целое. При этом огромная ставка делается на особое воздействие произведения на читателя – теперь задача автора – не увлечь воспринимающее сознание новаторским сюжетом, а погрузить его в стилистические завихрения текста, являющиеся смоделированным виденьем реальности (или её отсутствия) изображаемого героя. По такому принципу построен роман А. Николаенко «Убить Бобрыкина: История одного убийства», в котором таковым дискурсивным «центром» является главный герой Саша Шишин.
«Убить Бобрыкина» Саши (интересен здесь выбор формы имени, сохранившийся для некоторых изданий!) Николаенко в 2017 году был удостоен «Русского Букера». Критиками сразу был отмечена сознательная установка на дихотомию в романе – так, критик Юлия Великанова определяет текст, как синтез традиций русской классики с стилистическим авторским экспериментом. Последнее проявляется в тексте на уровне его «сделанности». Простая и живая форма диалогов, плавно перетекающих во внутреннюю речь героя, с самого начала оборачивается причудливым инверсионным слепком, в котором собрались реальность и фантазии, динамика внутреннего развития (впрочем, зачастую цикличного) и застывший вневременной момент из повседневной жизни героя. Читатель оказывается втянут в эту воронку с первых глав, причём изображаемое в тексте намеренно неидеально мимикрирует под реальность. Инверсионная форма построения предложений сразу настраивает воспринимающее сознание на особый поэтический лад. И парадоксальным образом эта обрывочная, но вместе с этим плавно перетекающая в разные свои грани форма сохраняется на протяжении всего текста.
Граница между реальными событиями и фантазиями Шишина намеренно размыта – и вторые зачастую подчиняют себе первые, это особенно ярко отображается в эпизодах воспоминаний о школе и обидчиках. Но и эти воспоминания окружены суггестивной подачей восприятия обыденности главным героем. Своим тоном текст создаёт гнетущее впечатление – при этом в нём отсутствует гротескно выраженная внешняя абсрудность происходящего, перед читателем рисуются реалистические на первый взгляд события из жизни Саши Шишина, живущего с религиозной матерью и влюблённого в соседку Таню, жену «ненавистного» Бобрыкина, издевавшимся над Сашей со школьных времён.
Можно рассматривать поток сознания Шишина как попытку гармонизации статичной окружающей действительности и выхода за пределы момента вне-временья, где ничего не меняется со школы – он по-прежнему живёт с деспотичной матерью, по-прежнему страдает от нападок Бобрыкина и утешается иллюзиями, созданными вокруг образа Тани. О том, что это именно образ, свидетельствует вся длительная сюжетная линия (выстроенная, скорее, пунктиром) встреч Шишина с ней. Неясно, жива ли вообще Таня на момент повествования – и насколько сильна её связь с героем с самого начала. Диалоги с Таней и письма, которые Шишин воспроизводит в своей памяти могли бы быть лишь предметом воображения, ровно, как и смелые планы с побегом в Австралию с «сахаром, солью и спичками» – отголосками связывающих с Таней «Двух капитанов».
Предметный мир в романе не столько сосредоточен вокруг героя – хотя, несомненно, Шишину принадлежит основное «зрение», вещный мир вокруг него необычайно выпуклый и телесный – и от этого иногда приобретает искажённые черты. У населяющих это пространство явлений нет «полутонов», зачастую они показаны с одной – самой показательной – стороны (таков, например, образ Бобрыкина, обязательно сопровождаемый определением «ненавистного», повторяющегося даже несколько раз для углубления в суть истинного отношения, невыразимую словами), либо же в самом экспрессивном выражении своей двойственности. Самый яркий пример последнего – образ матери, в которой «тёмная» деспотичная религиозность сочетается с языческой суеверностью. Против неё Шишин обычно не восстаёт прямо – своё несогласие с матерью он выражает только мыслями – и тихим неподчинением её суеверным требованиям. Тем не менее, мать всегда занимает доминирующую позицию над ним – не сокрушает даже момент мнимого убийства. В финале романа, она спускается по лестнице вниз, возвышаясь в это время над Шишиным.
В итоге основным центром, воспринимающим эту искажённую реальность, является читатель, который «заимствует» в процессе чтения не только «глаза» Шишина, но и его мысли и чувства, плавно перетекающие из прямой речи (даже других героев) к слову нарратора – сознанию, приближенному к типу сознания Шишина, но, в отличие от последнего, владеющего инструментом для передачи своего восприятия без потери воздействия. Именно это является причиной первичного доверия читателя ко всему происходящему в тексте – несмотря на растущую по мере чтения уверенность в том, что катализатором событий является сознание героя, читатель не сразу понимает ненависть Шишина к Бобрыкину – не само её наличие (после первой сцены с верёвкой и «шишкиным лесом» всё становится чуть очевиднее), но больше её степень – но полностью разделяет её за счёт погружения в тотальную суггестию. При этом она отличается почти ритуальной поэтической протяжённостью, где наивысшая точка – есть самый экспрессивный момент выражения двух противоположных по сути, но единых в силе своего выражения чувств любви и ненависти. Мать говорит Шишину: «Терпеть должна любовь», однако единственный смысл своего существования он видит в детской любви к Тане, чей образ нагружен всеми светлыми чувствами и бытийными смыслами, которые дают ему надежду жить, но которые не находят реализации в реальности – даже воображаемая Таня признаётся в финале, что любит не его, а Бобрыкина. При этом ненависть к Бобрыкину является силой не меньшей, заставляющей героя порой выходить из состояния молчаливой внешней покорности домашним устоям матери – и всему устройству своего бытия. На этом фоне более отчётливой, но вместе с тем, более оторванной от реальности кажется его любовь к Тане. Именно её Шишин старается всеми силами «овеществить», превратить фантомный символ, дающий смысл его существованию, в предмет собственной окружающей действительности, которая очень телесна (отсюда мелкие детали вроде земляничного мыла и желания носить на себе тот же запах, который связывает с Таней).
В финале романа герой не обретает опору, а окончательно уходит от реальности – его фантазии полностью заменяют окружающую его пустоту. Непонятно даже его положение в пространстве: сидя на лестнице вместе с новообретённым образом Тани, Шишин видит, как с разных сторон лестницы к нему приближаются «ненавистный» Бобрыкин и мать, а до этого он говорил Тане о совершённом убийстве. Казалось, круг снова замкнулся и читателю уже нет выхода из чужого виденья мира – несмотря на то, что роман уже подвёл нижнюю границу. Выстроенная в романе композиция начинается от кратковременного ухода Шишина из дома и заканчивается его неизбежным возвращением, при этом его постоянно сопровождают более конкретные образы (в отличие от символического присутствия-отсутствия Тани) матери и Бобрыкина. Они тоже сопровождаются знаками конкретной близкой Шишину реальности: Бобрыкин – с газетой, мать – с ведром. И они оба «замыкают» круг, в центре которого главный герой, это проявляется как на уровне пространственном (герои направляются к Шишину с двух сторон), так и формальном – роман имеет почти поэтическое завершение, полностью разрушая мнимый прозаический строй. Далее весь роман может быть воспринят по «второму кругу» – возвращение к началу сразу после финала не размыкает герметичный круг выстроенной модели (не)реальности, не давая читателю сразу вернуться в первоначальное состояние, в котором он находился до погружения в текст. А, следовательно, ему снова придётся сопровождать героя в магазин за земляничным мылом и безоговорочно разделять его ненависть к Бобрыкину.
Подобная игра с читательским восприятием и некоторым обманом ожиданий начинается даже с названия романа. Подзаголовок «История одного убийства» закладывает в горизонт читательских ожиданий привычные жанровые каноны детективного романа. Однако настоящего «убийства» в тексте не происходит – более того, раз за разом, с каждым глубоким погружением в сознание Шишина через вплетения внутренней речи, нивелируется значимость настоящего момента убийства – а степень оторванности главного героя от реальность, напротив, увеличивается волнообразно. Прогоняя в сознании ситуации, в которых Бобрыкин «ненавистный» оказывается убит, задушен, Шишин всё больше погружается в собственное виденье окружающей его действительности, откуда он в силу особенностей самого своего восприятия не может выйти. Это напоминает ситуацию с романом П. Зюскинда «Парфюмер», где аналогичный подзаголовок являлся отображением постмодернистской деконструкции самого представления о читательском восприятии и глубже – о существовании культурных и эстетических знаков в словесности рубежа XX-XXI веков. Однако временная дистанция между выходами романов – более, чем в тридцать лет, постмодернистские тенденции уже прочно закреплены не только в методах творческого письма, но и в восприятии текста – в тотальном недоверии к нему. Следовательно, для поддержания контакта с читателем, тексту необходимо не только воссоздать модель действительности, но и установить прочную эмоциональную связь с носителем особого взгляда на эту действительность. И роман Саши Николаенко за счёт трогательной поэтичности, граничащей с пугающим телесным гротеском устанавливает её.
«Убить Бобрыкина» Саши (интересен здесь выбор формы имени, сохранившийся для некоторых изданий!) Николаенко в 2017 году был удостоен «Русского Букера». Критиками сразу был отмечена сознательная установка на дихотомию в романе – так, критик Юлия Великанова определяет текст, как синтез традиций русской классики с стилистическим авторским экспериментом. Последнее проявляется в тексте на уровне его «сделанности». Простая и живая форма диалогов, плавно перетекающих во внутреннюю речь героя, с самого начала оборачивается причудливым инверсионным слепком, в котором собрались реальность и фантазии, динамика внутреннего развития (впрочем, зачастую цикличного) и застывший вневременной момент из повседневной жизни героя. Читатель оказывается втянут в эту воронку с первых глав, причём изображаемое в тексте намеренно неидеально мимикрирует под реальность. Инверсионная форма построения предложений сразу настраивает воспринимающее сознание на особый поэтический лад. И парадоксальным образом эта обрывочная, но вместе с этим плавно перетекающая в разные свои грани форма сохраняется на протяжении всего текста.
Граница между реальными событиями и фантазиями Шишина намеренно размыта – и вторые зачастую подчиняют себе первые, это особенно ярко отображается в эпизодах воспоминаний о школе и обидчиках. Но и эти воспоминания окружены суггестивной подачей восприятия обыденности главным героем. Своим тоном текст создаёт гнетущее впечатление – при этом в нём отсутствует гротескно выраженная внешняя абсрудность происходящего, перед читателем рисуются реалистические на первый взгляд события из жизни Саши Шишина, живущего с религиозной матерью и влюблённого в соседку Таню, жену «ненавистного» Бобрыкина, издевавшимся над Сашей со школьных времён.
Можно рассматривать поток сознания Шишина как попытку гармонизации статичной окружающей действительности и выхода за пределы момента вне-временья, где ничего не меняется со школы – он по-прежнему живёт с деспотичной матерью, по-прежнему страдает от нападок Бобрыкина и утешается иллюзиями, созданными вокруг образа Тани. О том, что это именно образ, свидетельствует вся длительная сюжетная линия (выстроенная, скорее, пунктиром) встреч Шишина с ней. Неясно, жива ли вообще Таня на момент повествования – и насколько сильна её связь с героем с самого начала. Диалоги с Таней и письма, которые Шишин воспроизводит в своей памяти могли бы быть лишь предметом воображения, ровно, как и смелые планы с побегом в Австралию с «сахаром, солью и спичками» – отголосками связывающих с Таней «Двух капитанов».
Предметный мир в романе не столько сосредоточен вокруг героя – хотя, несомненно, Шишину принадлежит основное «зрение», вещный мир вокруг него необычайно выпуклый и телесный – и от этого иногда приобретает искажённые черты. У населяющих это пространство явлений нет «полутонов», зачастую они показаны с одной – самой показательной – стороны (таков, например, образ Бобрыкина, обязательно сопровождаемый определением «ненавистного», повторяющегося даже несколько раз для углубления в суть истинного отношения, невыразимую словами), либо же в самом экспрессивном выражении своей двойственности. Самый яркий пример последнего – образ матери, в которой «тёмная» деспотичная религиозность сочетается с языческой суеверностью. Против неё Шишин обычно не восстаёт прямо – своё несогласие с матерью он выражает только мыслями – и тихим неподчинением её суеверным требованиям. Тем не менее, мать всегда занимает доминирующую позицию над ним – не сокрушает даже момент мнимого убийства. В финале романа, она спускается по лестнице вниз, возвышаясь в это время над Шишиным.
В итоге основным центром, воспринимающим эту искажённую реальность, является читатель, который «заимствует» в процессе чтения не только «глаза» Шишина, но и его мысли и чувства, плавно перетекающие из прямой речи (даже других героев) к слову нарратора – сознанию, приближенному к типу сознания Шишина, но, в отличие от последнего, владеющего инструментом для передачи своего восприятия без потери воздействия. Именно это является причиной первичного доверия читателя ко всему происходящему в тексте – несмотря на растущую по мере чтения уверенность в том, что катализатором событий является сознание героя, читатель не сразу понимает ненависть Шишина к Бобрыкину – не само её наличие (после первой сцены с верёвкой и «шишкиным лесом» всё становится чуть очевиднее), но больше её степень – но полностью разделяет её за счёт погружения в тотальную суггестию. При этом она отличается почти ритуальной поэтической протяжённостью, где наивысшая точка – есть самый экспрессивный момент выражения двух противоположных по сути, но единых в силе своего выражения чувств любви и ненависти. Мать говорит Шишину: «Терпеть должна любовь», однако единственный смысл своего существования он видит в детской любви к Тане, чей образ нагружен всеми светлыми чувствами и бытийными смыслами, которые дают ему надежду жить, но которые не находят реализации в реальности – даже воображаемая Таня признаётся в финале, что любит не его, а Бобрыкина. При этом ненависть к Бобрыкину является силой не меньшей, заставляющей героя порой выходить из состояния молчаливой внешней покорности домашним устоям матери – и всему устройству своего бытия. На этом фоне более отчётливой, но вместе с тем, более оторванной от реальности кажется его любовь к Тане. Именно её Шишин старается всеми силами «овеществить», превратить фантомный символ, дающий смысл его существованию, в предмет собственной окружающей действительности, которая очень телесна (отсюда мелкие детали вроде земляничного мыла и желания носить на себе тот же запах, который связывает с Таней).
В финале романа герой не обретает опору, а окончательно уходит от реальности – его фантазии полностью заменяют окружающую его пустоту. Непонятно даже его положение в пространстве: сидя на лестнице вместе с новообретённым образом Тани, Шишин видит, как с разных сторон лестницы к нему приближаются «ненавистный» Бобрыкин и мать, а до этого он говорил Тане о совершённом убийстве. Казалось, круг снова замкнулся и читателю уже нет выхода из чужого виденья мира – несмотря на то, что роман уже подвёл нижнюю границу. Выстроенная в романе композиция начинается от кратковременного ухода Шишина из дома и заканчивается его неизбежным возвращением, при этом его постоянно сопровождают более конкретные образы (в отличие от символического присутствия-отсутствия Тани) матери и Бобрыкина. Они тоже сопровождаются знаками конкретной близкой Шишину реальности: Бобрыкин – с газетой, мать – с ведром. И они оба «замыкают» круг, в центре которого главный герой, это проявляется как на уровне пространственном (герои направляются к Шишину с двух сторон), так и формальном – роман имеет почти поэтическое завершение, полностью разрушая мнимый прозаический строй. Далее весь роман может быть воспринят по «второму кругу» – возвращение к началу сразу после финала не размыкает герметичный круг выстроенной модели (не)реальности, не давая читателю сразу вернуться в первоначальное состояние, в котором он находился до погружения в текст. А, следовательно, ему снова придётся сопровождать героя в магазин за земляничным мылом и безоговорочно разделять его ненависть к Бобрыкину.
Подобная игра с читательским восприятием и некоторым обманом ожиданий начинается даже с названия романа. Подзаголовок «История одного убийства» закладывает в горизонт читательских ожиданий привычные жанровые каноны детективного романа. Однако настоящего «убийства» в тексте не происходит – более того, раз за разом, с каждым глубоким погружением в сознание Шишина через вплетения внутренней речи, нивелируется значимость настоящего момента убийства – а степень оторванности главного героя от реальность, напротив, увеличивается волнообразно. Прогоняя в сознании ситуации, в которых Бобрыкин «ненавистный» оказывается убит, задушен, Шишин всё больше погружается в собственное виденье окружающей его действительности, откуда он в силу особенностей самого своего восприятия не может выйти. Это напоминает ситуацию с романом П. Зюскинда «Парфюмер», где аналогичный подзаголовок являлся отображением постмодернистской деконструкции самого представления о читательском восприятии и глубже – о существовании культурных и эстетических знаков в словесности рубежа XX-XXI веков. Однако временная дистанция между выходами романов – более, чем в тридцать лет, постмодернистские тенденции уже прочно закреплены не только в методах творческого письма, но и в восприятии текста – в тотальном недоверии к нему. Следовательно, для поддержания контакта с читателем, тексту необходимо не только воссоздать модель действительности, но и установить прочную эмоциональную связь с носителем особого взгляда на эту действительность. И роман Саши Николаенко за счёт трогательной поэтичности, граничащей с пугающим телесным гротеском устанавливает её.