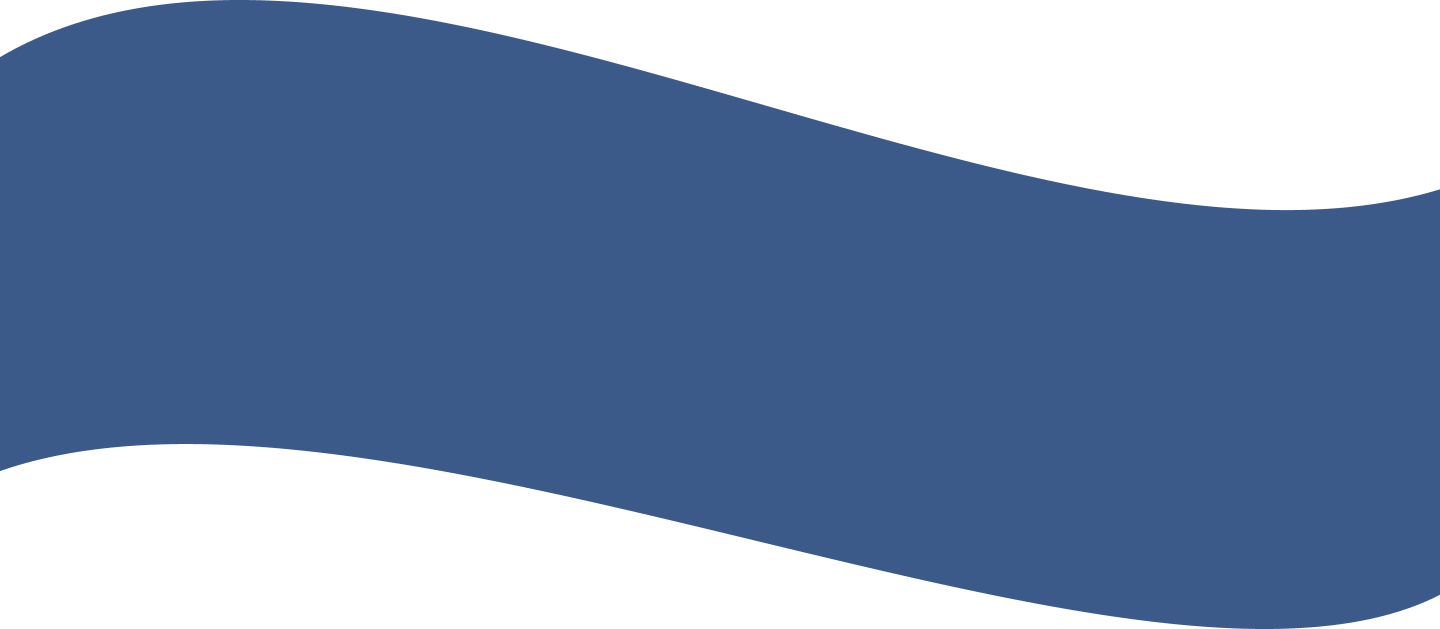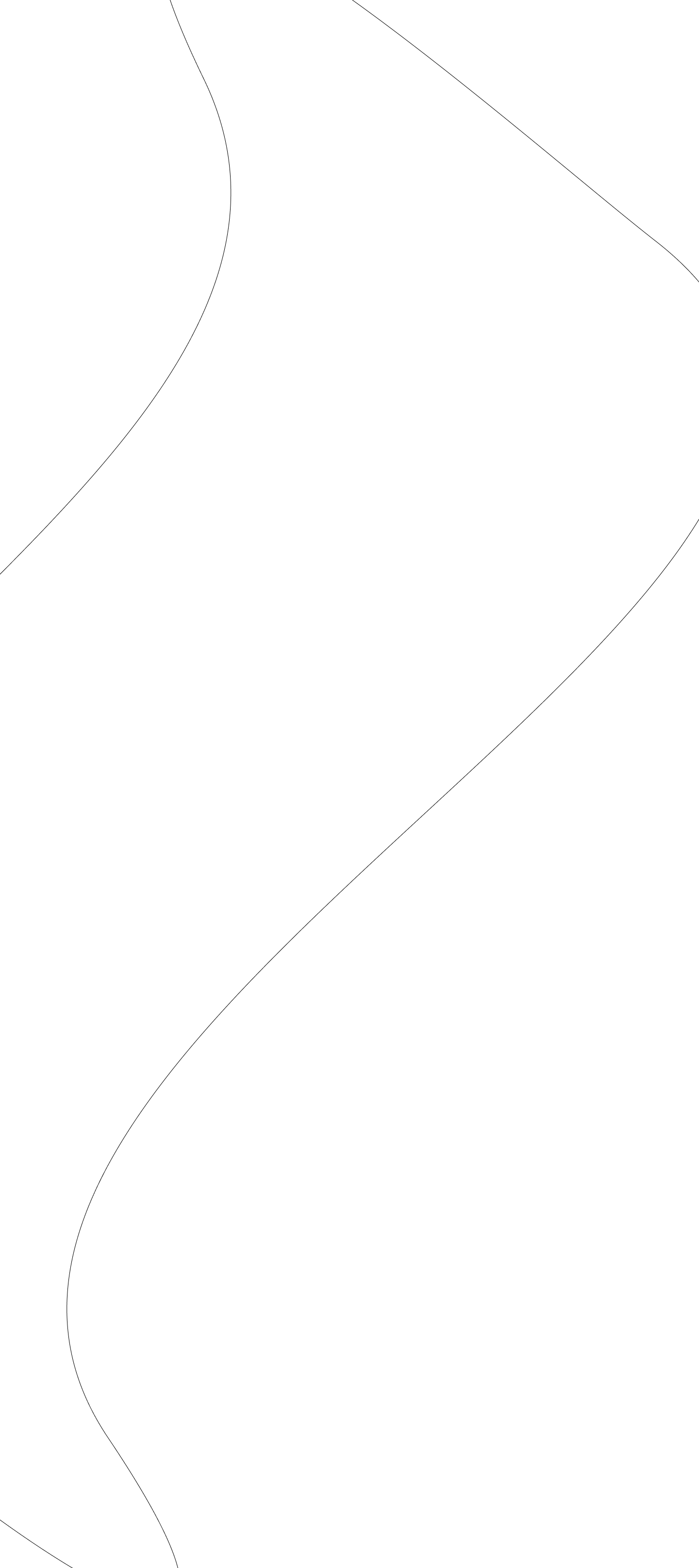

31.03.2025
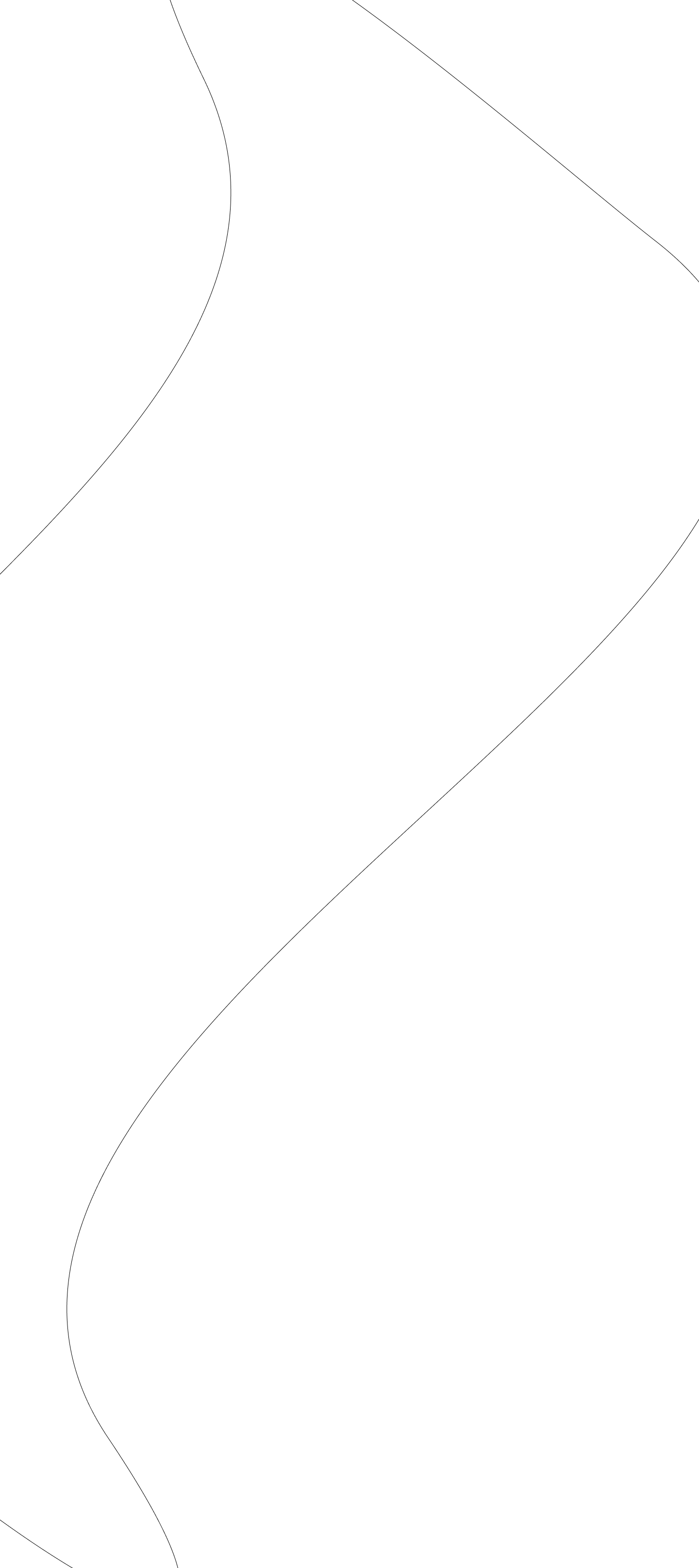

Кинопроект «История глазами поэта» как исследование темы «Человек и Время»
«ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИ» СВОЙ ВЗГЛЯД НА МИР
Выбор в пользу песочной анимации как основы заднего фона и перехода между новеллами абсолютно нетипичен. За основу взяты не готовые рисунки, а сам процесс их создания. Главная сложность в воплощении этой идеи заключается в том, что оператору-постановщику приходится очень скрупулезно «вырезать» из кадра руки художника, оставляя лишь характер движения песка. Картины ушедших эпох возникают как будто из ниоткуда. Дмитрий утверждает, что задний фон вполне может быть и отдельным произведением!
Завораживающая песочная анимация рождает в фильме уникальный сплав разных видов искусств. Созданные руками художника Екатерины Бирюковой картины из песка гармонично вписаны в канву фильма и предстают задним фоном, на котором разворачиваются события.
«Рисую песком то, что не произнесено словами», — в этом Екатерина видит свою творческую задачу.
Песок символизирует бесконечный поток событий, где то, что происходит с человеком, совершенно не зависит от эпохи. Он всё также ходит на работу и на обед, общается с начальством и занимается политикой, влюбляется и создаёт семью… В этом смысле, времена шумеров, английского средневековья и современной России — они об одном и том же — о неизменной природе самого человека.
Необходимо отметить кропотливую работу оператора-монтажера Дмитрия Цехановского. Ему необходимо вручную обработать каждый отснятый кадр, чтобы песочная анимация была плавной и повторяла реальное движение песка, высыпающегося из руки художника, а ведь в 25 минутах 3-й части содержится более 30-ти тысяч кадров!
Кроме того, «История глазами поэта» посвящена отчасти и самой теме «художника и времени». Поэт (художник тоже) интересен тем, что имеет непривычный, уникальный, «дактилоскопически» свой взгляд на мир. Также в фильме появляется тема «искусства и истории», где всё является лишь частью общего целого. Именно поэтому в финале мы увидим одного актера в разных своих образах в галереях-окнах Вавилонской башни из песка…
ЧАСТЬ ПАЗЛА В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ
Художник песочной анимации Екатерина Бирюкова:
«Я рисую то, что не произнесено словами! И, таким образом, открываю скрытые смыслы, благодаря чему в картинке проступает необходимая глубина. Визуал говорит со зрителем быстрее чем слово, которое задаёт вектор движению мысли… Для кинокартинки важна силуэтность, композиция, важен момент недосказанности и в то же время реалистичности. И тут зритель, с почерпнутой из слова мыслью и образом, оказывается в придуманном художником мире.
Визуальная изюминка 3-й части в том, что очень большой скрытый смысл содержится в глубине кадра. Герои ведут беседу о моментах бытового уровня, а на заднем плане происходит смена исторических эпох, мерцают образы ушедших культур, дающих отсылки к осмыслению связей визуального ряда с действиями и диалогом персонажей. Мозг реципиента включается и работает, чтоб сориентироваться в пространстве кинообраза. У зрителя появляется возможность интерпретировать визуальный материал уникально, по-своему.
Кто самый важный человек в моём киноопыте? Конечно, автор и режиссёр! В основе их видение, идеи и цель что-то донести до людей.
Все остальные участники — инструменты общей механики процесса создания видеоматериала. Я, как художник, только часть «пазла» в общей картине замысла. Для меня заданы определенные темы и примерные образы. Но в процессе рисования, я понимала, что могу сразу не попасть в нужный визуальный ряд, поэтому должна всегда присутствовать и готовность что-то перерисовать. Оператору-постановщику низкий поклон! Актеры вдохновляют! К режиссуре у меня огромная благодарность, за то, что они, реализуя именно СВОИ идеи, тем-не-менее дают возможность самореализоваться всем остальным участникам проекта. Сотворчество — это мега-круто!
Самое главное в кинопроцессе, на мой взгляд, собрать всё в одно целое (но не как механического Франкенштейна, а полноценный живой организм). Это творческий процесс и он требует огромных сил и настроя на результат, даже если пока достоверно не очень-то ясно, каким он будет в итоге. Я понимаю, что постоянно быть в состоянии вдохновения невозможно, всегда есть риск «свалиться» в рутину и потеряться в ней. Поэтому классно, когда ты в большом проекте, когда люди вдохновляют и поддерживают друг друга в нужный момент.
Когда рисую, у меня есть стремление попасть в образы, которых от меня изначально ждут. Конечно, я опираюсь на визуальный ряд сети, фотоклассических скульптур, гравюр и т.п., потому что моей визуальной памяти не хватает для феерического разнообразия видео-иллюстраций. Я не была в тех местах, которые изображаю, и, естественно, те временные пласты, что мне нужно показать, не даны мне в ощущениях. Я не знакома с людьми, образы которых я рисую. Я не обладаю спектром знаний, которым обладают коллеги. Но моя главная задача, чтобы режиссеры, а потом и зритель, мне поверили, и мне удалось «попасть в точку» своим визуальным рядом!..»
НЕВЕРОЯТНОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИЁМОВ
Второй оператор, продюсер фильма Лиза Матери, преподаватель ВШЖ НИ ТГУ:
1) Известно, что всё уже снято и было. В чем визуальная изюминка фильма?
«Я бы ответила кратко — в сочетании визуальных элементов. Во всех частях фильма мы, как операторская группа, использовали технические приемы, которые бы максимально передали смысловую составляющую. Но важно при этом, чтоб не было «избыточных виньеточных красивостей». Как говорит наш режиссёр монтажа Владимир Макарихин, чтоб «не было лишних бантиков». Вот мы и придумывали с оператором-постановщиком, как сочетать всё желаемое, так, чтоб и «монтажно» было, и реализуемо в наших скромных условиях, исходя из ресурсов, которыми мы располагаем. И, конечно, чтоб общей стилистике наши фантазии и импровизации не противоречили.
Приходилось решать самые небанальные задачи… Как в заброшенном старинном здании воссоздать шотландское средневековье с шабашем ведьм? Или как отобразить огромный кусок истории, склеив сотни тысяч кадров в 60 минутах?
Конечно, где-то приходилось немного хитрить… Например, во второй части «Тэме» (по Бернсу), как мы его называем, получилась целая игровая реконструкция-ретроспекция с живой лошадью, труппой танцующих «ведьм» (не «Триллер» Майкла Джексона, конечно, но тоже на уровне!), колоритное пьянство в шотландском пабе и настоящие тартановые килты на актёрах!.. В части «Шумеров» сложилось невероятное сочетание приемов на постпродакшене, а именно песочной анимации и графики из отснятого материала с наложением друг на друга.
Такой подход позволил нам создать настоящее кино, имея совсем невеликие ресурсы региона».
2) Кто для вас важный человек в киноопыте: режиссер, оператор? Кем хочется вдохновляться? С чьей эстетикой себя соотносить?
«Если бы задали такой вопрос в процессе производства, я бы ответила, что самый важный человек в моем киноопыте — оператор-постановщик. Но сейчас я уже не могу однозначно ответить на этот вопрос. Обе роли, и режиссер, и оператор-постановщик, сильно повлияли на мое развитие, как кинодеятеля. Мне, конечно же, всё ещё привычнее мыслить технично, заниматься переводом текста автора на киноязык. Но теперь я использую полученные навыки для того, чтобы создавать собственные работы, продюсировать и режиссировать фильмы студентов, вкупе с тем, что я взяла от сотрудничества с режиссерской группой. Здесь стало не менее важно говорить «о работе со смыслами», об «их упаковке», «докрутке до нужного». Отсюда и опыт работы с актерами, и выстраивание коммуникаций с творческой командой в целом».
3) Что самое сложное в кинопроцессе, с вашей точки зрения…
«Трудно отметить, что именно было самым сложным, хочется скорее здесь сказать про вызовы, с которыми лично столкнулась в нашем кинопроизводстве. Однозначно стало вызовом работать с режиссером монтажа удалённо. Это сильно влияло на сроки, тяжело было переговариваться с ним «по черновым сборкам». В мои задачи входило формирование сопровождающих документов для прокатного удостоверения, что тоже весьма странно было «побеждать» на дистанции в несколько тысяч километров.
Вызовом стало и осознание того, что в творческом процессе не бывает ничего скорого и срочного. В рамках своей основной работы я привыкла мыслить «единицами контента», сжатыми, но предсказуемыми сроками. Однако, когда вы создаете действительно важный, интеллектуально сложный, творческий продукт, ни о какой спешке не может идти речи!
Проект наш не является коммерческим, но при этом у него есть своя целевая аудитория. Кино находит своего зрителя и на федеральных каналах. Наши предыдущие работы не раз транслировались на «России-Культуре», на ОТР, на «Томском времени». Осуществлялись презентации в рамках творческих вечеров, кинопоказы на разных площадках. Однако вопрос о масштабировании остается открытым».
Татьяна Федотова — студентка 2 курса Филологического факультета ТГУ (специальность «Литературное творчество», мастерская В.Ю. Баль)
Софья Ходарина — студентка 2 курса Филологического факультета ТГУ (специальность «Литературное творчество», мастерская В.Ю. Баль)
Александра Деркачёва — студентка 3 курса Филологического факультета ТГУ (специальность «Литературное творчество», мастерская М.Ю. Олеара)



Специальная фотосъёмка: Евгения Торубарова
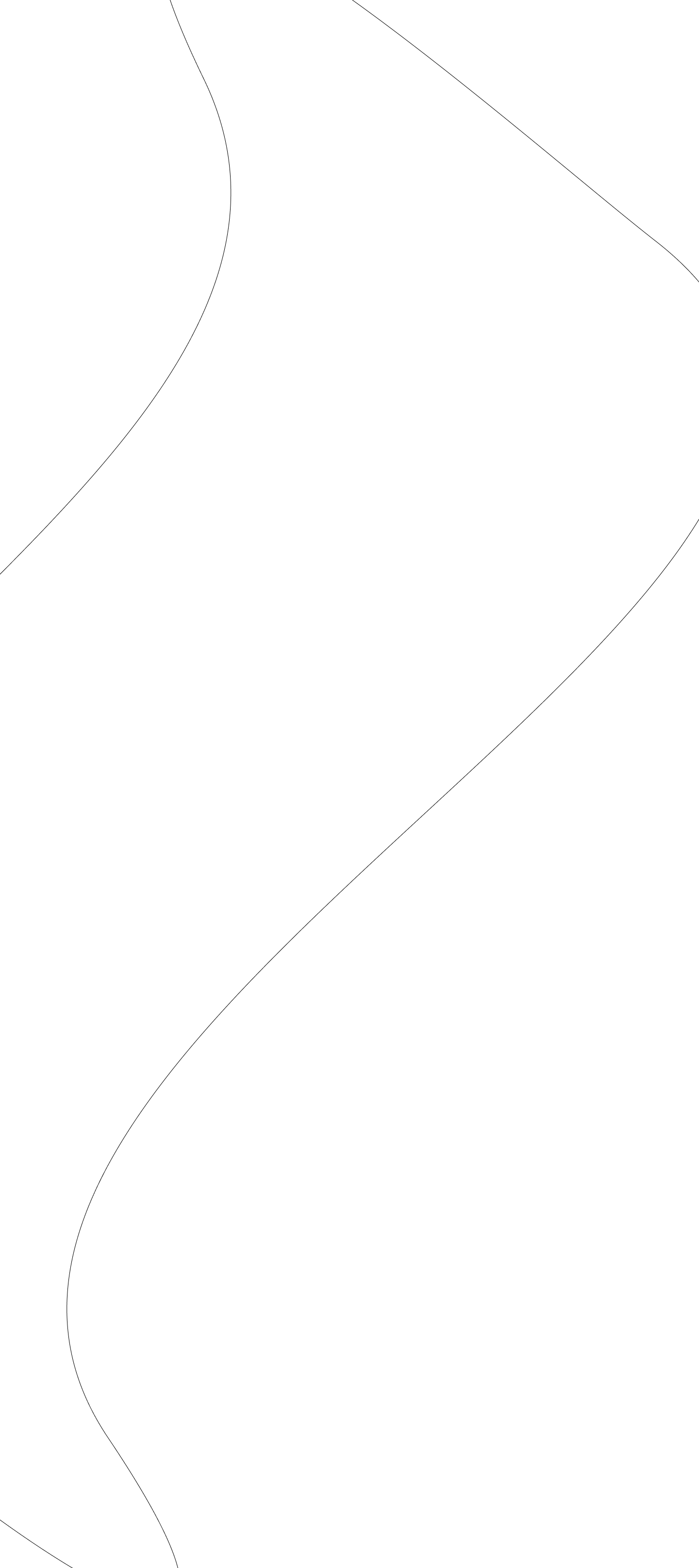

СПЛАВ СТИЛЕЙ, ЖАНРОВ, ЯЗЫКОВ
Исполнитель гл. роли Евгений Казаков, заслуженный артист РФ:
«Когда речь заходит о поэтическом языке, тут главное, как мне кажется, — рассказывать на нём в кино внятную историю, не выбиваясь из ритмического размера стиха, и не нарушая общего авторского замысла. В общем, важно попытаться транслировать визуально понятном читателю / зрителю способом всё, что кажется ему сначала сложным и недоступным. Картинка рождает образы, которые конденсируются в его сознании в облако смыслов.
Мне очень нравится кинематограф — разнообразием стилей, жанров, языков. Никто, кроме узких профи, не поймёт язык Шекспира на староанглийском. Но Шекспир на языке кино вполне доступен массовому зрителю. Можно сколько угодно говорить, что авторское кино — удел избранных, однако, даже не самый продвинутый читатель / зритель может воспринимать и Тарковского, и Копполу, и Тарантино. Даже если это сложный метафорический язык, ему все равно будет интересно.
Насчет киноэстетики, которую предпочитаю, вопрос сложный. Есть множество режиссеров, жанров и стилей, которых хотелось бы коснуться, если вдруг представится такая возможность. Ну, кроме, наверное, кино ширпотреба, тут жаль тратить силы и время. На данном поприще и без нас подвизается значительное количество «профессионалов жанра». Все коллеги тут со мной согласны.
Насчет эталона актерской игры в кино никогда специально не думал. Эталонов нет, в принципе. Разве что, наверное, Михаил Чехов. Не потому, что видел его вживую, но я читал его потрясающие книги.
Есть замечательные актеры, которые мне нравятся. Олег Борисов, Иннокентий Смоктуновский, Аль Пачино, де Ниро… Да многих великих мог бы назвать. Но ни с кем себя не соотношу совершенно. Просто нравятся эти мастера своей уникальной актёрской харизмой. Здорово, что они есть в профессии!
Если говорить о кинопоэзии, я бы сказал, что дело тут даже не в смешение жанров. Поэзия сама по себе жанр всеобъемлющий, который в ответе буквально за всё в любом виде творческой деятельности, она – уникальный взгляд на мир! В настоящем, хорошем кино поэзия присутствует везде: в диалогах (в них не должно быть ничего лишнего, как в хорошем лирическом тексте), в картинке, в музыке, в игре актёров, в говорящих деталях их костюмов и т.д. и т.п. Смотришь, кстати, когда Юрский читает, скажем, того же «Евгения Онегина», и перед мысленным взором сразу картинка возникает — подключается ресурс твоего воображения.
В общем, поэзия — нечто очень сущностное, что помогает выразить то, что очень трудно объяснить другим каким-то способом… Может быть, и музыкой, и живописью, и другими видами искусства. А в поэтическом кино всё собирается вместе в виде более доступном для зрителя, нежели, чем просто текст. И, в то же время, слово — да, вначале ведь было слово! — вспоминается сразу. Вот в голову пришло, что наскальные примитивные рисунки — ни что иное, как первооснова поэтического взгляда на мир — через образы и символы.
Картинки, начертанные нашими первобытными предками на стенах пещер, это, в каком-то смысле, доисторическое кино! Попытка выразить в визуальных образах то, что с ними происходило. Но так как возможности записать это словами еще не появилось, возникала потребность «оформлять» историю такими«картинками». Пастернак, кажется, сказал, что язык поэзии — способность объясняться мгновенно понятными озарениями. Образы киноязыка — они о том же.
У меня ощущение, что хоть аудитория (таких сложных, как кинопоэзия, жанров) не настолько велика, но рассчитаны они должны быть на каждого! Также, как школьная программа, например. Очень важно, что школа даёт общий базовый образовательный фундамент, именно на нём строится потом здание национальной культуры. Вот я бы даже в школьную программу ввел просмотр таких фильмов…
Иосиф Бродский в своё время выдвигал идею, чтоб и в кафе, и в супермаркетах, и на прикроватных тумбочках в гостиницах, лежали книжки стихов… Зачем? Ну, как-то же надо пытаться сохранить в Homo побольше от sapiens’a… Наш фильмы, пожалуй, — та же попытка — оставить свой «покетбук» на прикроватной тумбочке…»
Специальная фотосъёмка: Евгения Торубарова
Фото: Сергей Зацепин