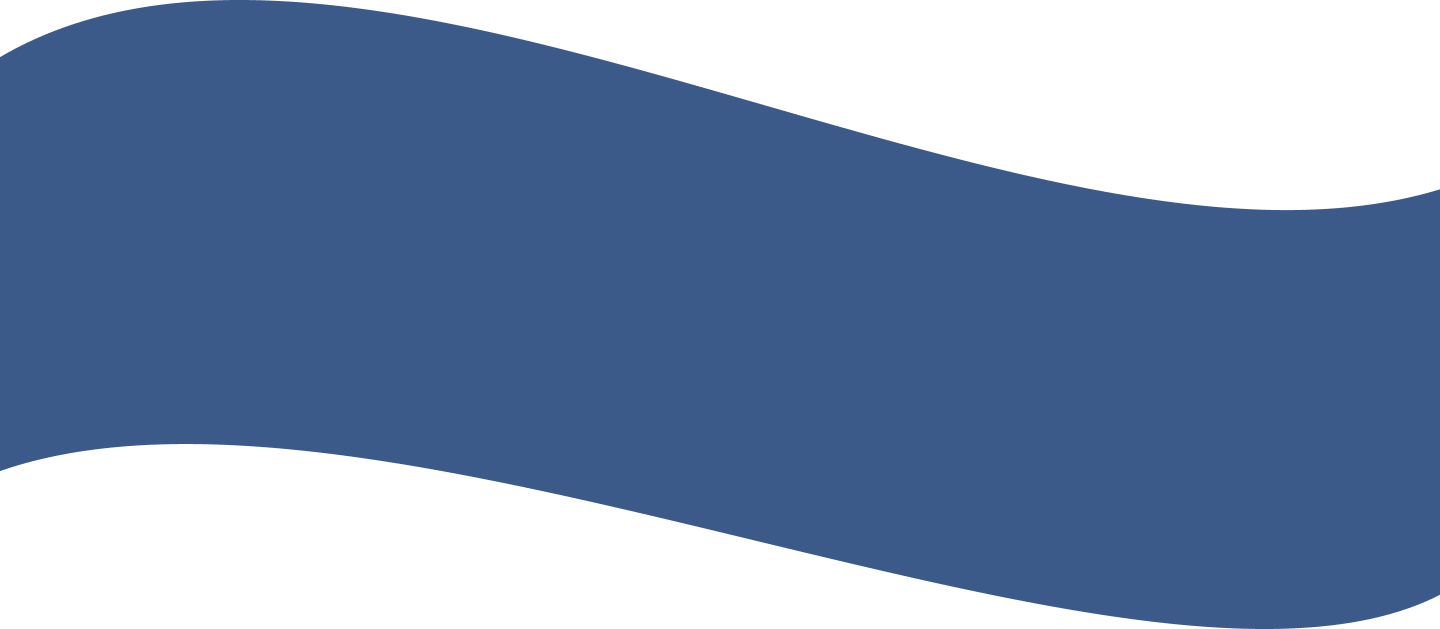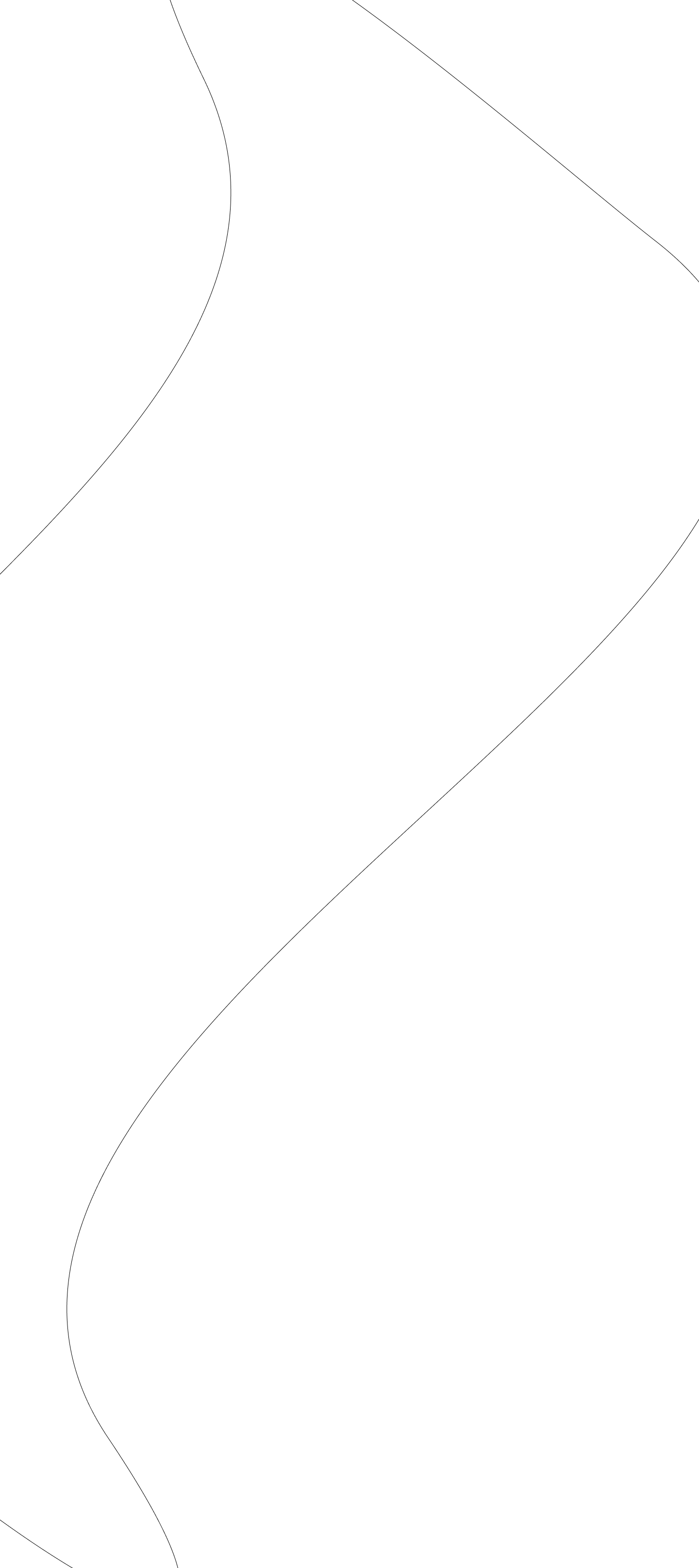

I
Анна Данилова —
студентка 4 курса специальности «Литературное творчество» (мастерская А.Н. Губайдуллиной)
студентка 4 курса специальности «Литературное творчество» (мастерская А.Н. Губайдуллиной)
ПАВОДОК
Впоследствии она пожалела о том, что уехала как сбежала, никого не предупредив. В поездке не было необходимости. Просто захотелось сделать что-то неожиданное, а про последствия не думать. Поэтому и уехала на дачу, в посёлок, следить, чтобы ежегодным весенним паводком не подмыло забор.
Распутица ещё не высохла. Со станции надо было идти по колено в грязи, обвязав сапоги пакетами.
Вообще, дача была плохим местом для бунта. Мама могла приехать в любую минуту. Но внутренне она не хотела совершать что-то действительно опасное и безвозвратное, поэтому внезапный отъезд подходил больше всего.
Она распахнула окна, чтобы проветрить влажные комнаты. В домике было два этажа, один с жилыми комнатами, другой – мансарда. Мансарду раньше использовали как кладовку, сейчас там каждое лето жил безработный Игорёк. Ему расчистили угол, поставили там раскладушку. Под раскладушкой на полу были прожжены следы от сигарет. Бутылки и всякий другой сор они с мамой долго выбирали и уносили ещё осенью, пока Игорёк пьяно ругался на расхищение его сокровищ.
Она посмотрела из слухового оконца и надышалась воздухом весны – оттаявшей земли, дождевых червей, разогретого на ещё неясном солнце дерева. Было хорошо, хоть почки ещё не вылезли, и снег лежал в тени, окаменев ледяной коркой с червоточинами грязи.
Расконсервировала дом, сарайку, осмотрела огород. Как-то незаметно после смерти бабушки всё это перешло в управление мамы, и та вела хозяйство, как могла. Они перестали спорить из-за работы и начали ругань из-за огорода, дома и цветника.
Она всё это вспомнила и подумала, что вообще-то это была семейная трагедия. Мать и дочь не понимают друг друга вот уже два ли, три ли поколения? Но привычная мысль об этом скорее легко кольнула, чем расстроила всерьёз.
Утром оказалось, что речка Безымяшка всё же подтопила дома вниз по улице и уже подбиралась к их забору. Она нарыла небольшой ров и вал, сантиметров десять земли, и пошла дальше работать. Потоп был главным поводом для ссор с матерью – вот зачем строили так близко к реке – хоть строили задолго до рождения и матери, и дочери, и они никак не могли повлиять на место. Дети считали, что ничего страшного в потопах нет, но у матери случались приступы маниакального поиска плесени. В последнюю весну она довела себя до истерики, увидела какой-то воображаемый потёк, оторвала кусок обоев и потом долго орала за это на всех вокруг. Плесени не обнаружили. Обои так и не приклеили на место (да и зачем?), бумажная полоса осталась лежать на пыльном стуле. Иногда думалось, что мать нужно простить и пожалеть, ей и так тяжело. Но потом обида пересиливала, и она ждала повод уколоть мать побольнее в ответ на вечные истерики.
На ночь она подложила под порог игорькового тряпья, чтобы если немного подтопит, то хоть дальше двери не пойдёт.
Распутица ещё не высохла. Со станции надо было идти по колено в грязи, обвязав сапоги пакетами.
Вообще, дача была плохим местом для бунта. Мама могла приехать в любую минуту. Но внутренне она не хотела совершать что-то действительно опасное и безвозвратное, поэтому внезапный отъезд подходил больше всего.
Она распахнула окна, чтобы проветрить влажные комнаты. В домике было два этажа, один с жилыми комнатами, другой – мансарда. Мансарду раньше использовали как кладовку, сейчас там каждое лето жил безработный Игорёк. Ему расчистили угол, поставили там раскладушку. Под раскладушкой на полу были прожжены следы от сигарет. Бутылки и всякий другой сор они с мамой долго выбирали и уносили ещё осенью, пока Игорёк пьяно ругался на расхищение его сокровищ.
Она посмотрела из слухового оконца и надышалась воздухом весны – оттаявшей земли, дождевых червей, разогретого на ещё неясном солнце дерева. Было хорошо, хоть почки ещё не вылезли, и снег лежал в тени, окаменев ледяной коркой с червоточинами грязи.
Расконсервировала дом, сарайку, осмотрела огород. Как-то незаметно после смерти бабушки всё это перешло в управление мамы, и та вела хозяйство, как могла. Они перестали спорить из-за работы и начали ругань из-за огорода, дома и цветника.
Она всё это вспомнила и подумала, что вообще-то это была семейная трагедия. Мать и дочь не понимают друг друга вот уже два ли, три ли поколения? Но привычная мысль об этом скорее легко кольнула, чем расстроила всерьёз.
Утром оказалось, что речка Безымяшка всё же подтопила дома вниз по улице и уже подбиралась к их забору. Она нарыла небольшой ров и вал, сантиметров десять земли, и пошла дальше работать. Потоп был главным поводом для ссор с матерью – вот зачем строили так близко к реке – хоть строили задолго до рождения и матери, и дочери, и они никак не могли повлиять на место. Дети считали, что ничего страшного в потопах нет, но у матери случались приступы маниакального поиска плесени. В последнюю весну она довела себя до истерики, увидела какой-то воображаемый потёк, оторвала кусок обоев и потом долго орала за это на всех вокруг. Плесени не обнаружили. Обои так и не приклеили на место (да и зачем?), бумажная полоса осталась лежать на пыльном стуле. Иногда думалось, что мать нужно простить и пожалеть, ей и так тяжело. Но потом обида пересиливала, и она ждала повод уколоть мать побольнее в ответ на вечные истерики.
На ночь она подложила под порог игорькового тряпья, чтобы если немного подтопит, то хоть дальше двери не пойдёт.
II
Утром выяснилось, что тряпки не помогли. Она проснулась от подозрительного плеска, и поняла, что пол выглядит как-то странно. Пол стоял был слишком близко к кровати и казался тёмным, подвижным и как-то странно бликовал в выборочных местах. Она сонно проморгалась, свесила руку, и тут же отдёрнула её от испуга. Пол оказался текучим. Это была вода. Воды стояло по колено. Она дёрнулась и что-то плеснуло в густую от грязи лужу – телефон, оставленный на ночь под подушкой.
Тут она совсем проснулась, заметалась. Сначала побежала убрать ноутбук повыше, потом вспомнила про электрический щиток, побежала выключать его. Едва успела выключить, в сарайке уже подтачивало стены. Было страшно от того, что случилось бы, если б вода затопила электричество.
Пока она возвращалась домой, по колено в воде, всё вокруг казалось ненастоящим. Она ни разу не видела потопа, и изнутри казалось, будто она стоит в большой линзе. Перемешались небо и земля, вода – стоячая, мёртвая и смертельная, как болото, небо, начинающееся как будто из ниоткуда.
Стало страшно до попытки уцепиться за школьную память, за какой-то урок ОБЖ, но вместо этого стало жутко до кислоты во рту, и она даже схватилась за голову, чтобы выразить панику хоть чем-то. Потом что-то сказало, что она ведёт себя совсем, как мать, и успокоилась, назло матери. Сейчас было не до истерик. Подумала: дом, конечно, подтопило, но не до крыши же. Вода стояла неподвижно, не прибывала. Надо было добираться до ближнего села и там просить помощи. Может, ещё ходили электрички, если паводок не дошёл до путей.
Быстро, уныло упаковала уцелевшие вещи, пошарила по невидимому полу за телефоном, но так и не нашла и попинала воду, чтобы не расплакаться. Её напугало, что никуда не позвонить. Ноутбук тоже разрядился. Но потом подумала, что после звонка в семье бы начали стенать, ругаться, устроили бы беготню и всё испортили.
Она успокоила себя тем, что здесь одна, и никто не будет рыдать о плесени и драгоценных грядках, обвязала ноги пакетами и пошла выбираться.
Вместо земли под ногами был нанос из вязкого, липкого ила. Дачный посёлок стоял пустой, куда ни погляди, она приехала единственная. Вода едва доходила выше колена, но несла всякий мусор. Она боялась, что запнётся и упадёт лицом в грязную жижу. И вдруг что-то зажурчало в сапоге. Дёрнула ногу – нога зацепилась за что-то, вода хлынула внутрь. Она стояла, задрав ногу, и отчаянно ругалась на то, что какая-то железка распорола сапог. Потом подумала – спасибо, что не ногу.
К тому времени уже было понятно, что до посёлка не добраться – ил цеплялся за подошвы, как скотч-мухоловка. Но и после некоторое время брела с какой-то смутной надеждой. Может, будет кто-то проходить мимо? Или проплывать? Она вдруг снова пожалела, что ни одна живая душа не знает о её побеге, и что кругом на многие, может, километры – никого. Даже сторож куда-то делся, она заглядывала в его каморку на въезде. Но у старика было чутьё, как у зверя, наверняка он заранее почуял потоп и сбежал.
И снова она каким-то невыразимым усилием воли убедила себя в том, что и сама разберётся. Без сторожа. Без спасателей. Надо было ждать, пока вода отхлынет, и выбираться. Но где-то глубоко, за водой, илом, на самом дне головы она ощутила отчаяние.
В доме казалось, что воды прибыло. Это значило, что где-то внизу по Безымяшке, у устья, что-то случилось. Если бόльшая река размыла дамбы, значит, вода будет только прибывать и прибывать. Что, если вода дойдёт до крыши? А если затопит крышу? Сколько, говорили на ОБЖ, можно продержаться в ледяной воде?
Ожидая беды, перетащила наверх какие-то случайные припасы, вещи, всё, что удалось. Она устала, потому что помимо стихии боролась с тем, чтобы не разрыдаться от досады и смутного ожидания опасности. Вскоре вода дошла до окон, стала сочиться через щели в раме. Она перебралась в мансарду, на игорькову кровать и поморщилась – тот был нечистоплотный, чёрт-те что мог принести на себе. Понадеялась, что постельных клопов, если и нацеплял, выморозило за зиму. Сейчас она и сама была не лучше, перемазанная в жидкой грязи. Откуда-то на щеке была клякса, она смыла её в порыве брезгливости, и тут же пожалела, потому что надо было экономить чистую воду. Неизвестно, сколько ей тут сидеть, прежде чем родные не догадаются и не вызовут МЧС. А догадаются ли вообще?
Игорёк точно не вызовет. Она представила себе его фигуру, как-то скособоченную влево от вечной судороги мышц шеи и рук. Как он бессвязно мычал, обращаясь неведомо к кому «давай, давай…». Он бы, может, даже не заметил потопа, и утонул бы, снова заснув на ступеньках по большой пьяни. Или, как сторож, почуял бы бедствие из какого-то шёпота бутылки, и бежал бы раньше, чем оно началось? Она вспомнила, как по-звериному Игорёк прятал свои пузыри и бутылки, и как однажды скрылся сразу перед приходом на квартиру полиции (его собирались привлечь за мелкое хулиганство). Представила – и в отвращении отмахнулась. Игорёк скрывался, пропадал неделями, но всегда возвращался.
Она опять превратилась в мать, но другую, ответственную, и отругала себя за паникёрство и за то, что слишком много думает о плохом. Вода больше не будет прибывать, не должна. Наверняка дамбу уже починили, скоро всё утечёт обратно в русло. Да и на её памяти никогда не было сильных наводнений, значит, и это не будет таким уж страшным.
Она всё равно расплакалась от напряжения, свернувшись на игорьковой кровати, и вдруг прилила такая ненависть к нему, что закривилось лицо. Если бы не Игорёк, она бы может и не сбежала. Мама его всегда жалела оттого, что у него нет родителей: отец погиб в шахте, а мать умерла следом с горя. Когда умерла и бабушка, смотревшая за ним, мать перевезла его в квартиру, нянчила, как великовозрастного ребёнка. Насмотревшись на это, дочь сразу сказала, что Игорёк ей ни сват, ни брат, и если уже достаточно настрадался, то может и слезать с их шеи, а они оба (Игорёк и мама) кричали:
– Да как ты можешь, да ты как сыр в масле, да пожалей хоть сироту!
Мама ещё добавила:
– Да ты сама мне присосалась к шее, как паразитка!
Но это было давно, несколько лет назад. Ей с тех пор было так тошно принимать от мамы деньги, что она убивалась на репетиторстве за лишнюю копейку, как только доучилась, сразу же рванула из дома на ужасную съёмную квартиру. Мать как будто забыла про этот случай, что мучало больше, чем сама ссора. Как можно забыть про ссору, в которой её дочь всю переворотило, чуть ли не вывернуло наизнанку?
Впрочем, мать многое забыла. Забыла, о чём предупреждала дочь, но было поздно, Игорёк уже нырнул в какие-то свои алкогольные омуты, и выбираться оттуда не собирался, и стало ясно, что из родственного сострадания придётся волочить его за собой до конца жизни, хоть бы они и скандалили каждый день, Игорёк – с каким-то наглым огоньком в глазах, на праве страдальца, мать – со своим обычным, почти переигранным надрывом, который она вкладывала во всё, что делала.
И вот всё то же самое на прошлой неделе. Мать позвонила пожаловаться, что Игорёк опять вернулся грязный и избитый. Дочь не удержалась и позлорадствовала в ответ. Поругались страшно.
Она наплакалась. Спать, наверное, не стоило, чтобы следить за уровнем воды, но она всё равно уснула, назло кому-то. Может, подумала она (на самом деле не очень-то веря в такую возможность) она захлебнётся во сне грязной водой, тогда все что-то поймут и о чём-то пожалеют.
Утром вода снова прибыла. Вдруг стало очень страшно, и страшнее всего – что ничего не предпринять. Будто заперта в водной тюрьме. Она выглянула в окно без какой-то надежды.
Вода стояла, всё ещё как будто неподвижная, будто не прибывала по мере в час из какого-то своего внутреннего истока. Как омытая, полированная плитка, она стояла, и хоть бы рыба плеснула, или струя переплелась с другою, но нет. Кое-где её перерывали крыши домов (она порадовалась, что дед строил дом на фундаменте повыше, а зачем – никому не рассказал), кое-где мусор плыл, целые острова прошлогодней травы, лёд с пластиковым блеском на тающих гранях, даже берёза, вырванная где-то с корнем, вокруг них ещё рябили рытвинки в потревоженной течи, но в остальном – огромное жидкое зеркало.
Это было огромное, неповоротливое, всесокрушающее водяное тело, вобравшее тонны ила, тяжёлого мусора, может, даже трупы… Она оттолкнулась от слухового окна и прошла в глубь мансарды, чтобы его не видеть, иначе бы снова заплакала, и тогда бы точно обессилела.
Ей вдруг пришла идея построить плот, и она попыталась вырвать дверь, потом в каком-то непонятном ей самой приступе начала рвать её, тянуть, бить по петлям каким-то хламом, но дед строил на совесть – дверь устояла. Подумала о том, как будет объяснять матери искалеченную дверь, но тут вспомнила, что дом пострадал куда как сильнее, и что она сама на какие-то часы отстоит от погружения в тёмные воды.
Да, нечего было ждать. Она одна в посёлке. Скоро умрёт.
Она-мать снова наругала себя за панику.
Тут она совсем проснулась, заметалась. Сначала побежала убрать ноутбук повыше, потом вспомнила про электрический щиток, побежала выключать его. Едва успела выключить, в сарайке уже подтачивало стены. Было страшно от того, что случилось бы, если б вода затопила электричество.
Пока она возвращалась домой, по колено в воде, всё вокруг казалось ненастоящим. Она ни разу не видела потопа, и изнутри казалось, будто она стоит в большой линзе. Перемешались небо и земля, вода – стоячая, мёртвая и смертельная, как болото, небо, начинающееся как будто из ниоткуда.
Стало страшно до попытки уцепиться за школьную память, за какой-то урок ОБЖ, но вместо этого стало жутко до кислоты во рту, и она даже схватилась за голову, чтобы выразить панику хоть чем-то. Потом что-то сказало, что она ведёт себя совсем, как мать, и успокоилась, назло матери. Сейчас было не до истерик. Подумала: дом, конечно, подтопило, но не до крыши же. Вода стояла неподвижно, не прибывала. Надо было добираться до ближнего села и там просить помощи. Может, ещё ходили электрички, если паводок не дошёл до путей.
Быстро, уныло упаковала уцелевшие вещи, пошарила по невидимому полу за телефоном, но так и не нашла и попинала воду, чтобы не расплакаться. Её напугало, что никуда не позвонить. Ноутбук тоже разрядился. Но потом подумала, что после звонка в семье бы начали стенать, ругаться, устроили бы беготню и всё испортили.
Она успокоила себя тем, что здесь одна, и никто не будет рыдать о плесени и драгоценных грядках, обвязала ноги пакетами и пошла выбираться.
Вместо земли под ногами был нанос из вязкого, липкого ила. Дачный посёлок стоял пустой, куда ни погляди, она приехала единственная. Вода едва доходила выше колена, но несла всякий мусор. Она боялась, что запнётся и упадёт лицом в грязную жижу. И вдруг что-то зажурчало в сапоге. Дёрнула ногу – нога зацепилась за что-то, вода хлынула внутрь. Она стояла, задрав ногу, и отчаянно ругалась на то, что какая-то железка распорола сапог. Потом подумала – спасибо, что не ногу.
К тому времени уже было понятно, что до посёлка не добраться – ил цеплялся за подошвы, как скотч-мухоловка. Но и после некоторое время брела с какой-то смутной надеждой. Может, будет кто-то проходить мимо? Или проплывать? Она вдруг снова пожалела, что ни одна живая душа не знает о её побеге, и что кругом на многие, может, километры – никого. Даже сторож куда-то делся, она заглядывала в его каморку на въезде. Но у старика было чутьё, как у зверя, наверняка он заранее почуял потоп и сбежал.
И снова она каким-то невыразимым усилием воли убедила себя в том, что и сама разберётся. Без сторожа. Без спасателей. Надо было ждать, пока вода отхлынет, и выбираться. Но где-то глубоко, за водой, илом, на самом дне головы она ощутила отчаяние.
В доме казалось, что воды прибыло. Это значило, что где-то внизу по Безымяшке, у устья, что-то случилось. Если бόльшая река размыла дамбы, значит, вода будет только прибывать и прибывать. Что, если вода дойдёт до крыши? А если затопит крышу? Сколько, говорили на ОБЖ, можно продержаться в ледяной воде?
Ожидая беды, перетащила наверх какие-то случайные припасы, вещи, всё, что удалось. Она устала, потому что помимо стихии боролась с тем, чтобы не разрыдаться от досады и смутного ожидания опасности. Вскоре вода дошла до окон, стала сочиться через щели в раме. Она перебралась в мансарду, на игорькову кровать и поморщилась – тот был нечистоплотный, чёрт-те что мог принести на себе. Понадеялась, что постельных клопов, если и нацеплял, выморозило за зиму. Сейчас она и сама была не лучше, перемазанная в жидкой грязи. Откуда-то на щеке была клякса, она смыла её в порыве брезгливости, и тут же пожалела, потому что надо было экономить чистую воду. Неизвестно, сколько ей тут сидеть, прежде чем родные не догадаются и не вызовут МЧС. А догадаются ли вообще?
Игорёк точно не вызовет. Она представила себе его фигуру, как-то скособоченную влево от вечной судороги мышц шеи и рук. Как он бессвязно мычал, обращаясь неведомо к кому «давай, давай…». Он бы, может, даже не заметил потопа, и утонул бы, снова заснув на ступеньках по большой пьяни. Или, как сторож, почуял бы бедствие из какого-то шёпота бутылки, и бежал бы раньше, чем оно началось? Она вспомнила, как по-звериному Игорёк прятал свои пузыри и бутылки, и как однажды скрылся сразу перед приходом на квартиру полиции (его собирались привлечь за мелкое хулиганство). Представила – и в отвращении отмахнулась. Игорёк скрывался, пропадал неделями, но всегда возвращался.
Она опять превратилась в мать, но другую, ответственную, и отругала себя за паникёрство и за то, что слишком много думает о плохом. Вода больше не будет прибывать, не должна. Наверняка дамбу уже починили, скоро всё утечёт обратно в русло. Да и на её памяти никогда не было сильных наводнений, значит, и это не будет таким уж страшным.
Она всё равно расплакалась от напряжения, свернувшись на игорьковой кровати, и вдруг прилила такая ненависть к нему, что закривилось лицо. Если бы не Игорёк, она бы может и не сбежала. Мама его всегда жалела оттого, что у него нет родителей: отец погиб в шахте, а мать умерла следом с горя. Когда умерла и бабушка, смотревшая за ним, мать перевезла его в квартиру, нянчила, как великовозрастного ребёнка. Насмотревшись на это, дочь сразу сказала, что Игорёк ей ни сват, ни брат, и если уже достаточно настрадался, то может и слезать с их шеи, а они оба (Игорёк и мама) кричали:
– Да как ты можешь, да ты как сыр в масле, да пожалей хоть сироту!
Мама ещё добавила:
– Да ты сама мне присосалась к шее, как паразитка!
Но это было давно, несколько лет назад. Ей с тех пор было так тошно принимать от мамы деньги, что она убивалась на репетиторстве за лишнюю копейку, как только доучилась, сразу же рванула из дома на ужасную съёмную квартиру. Мать как будто забыла про этот случай, что мучало больше, чем сама ссора. Как можно забыть про ссору, в которой её дочь всю переворотило, чуть ли не вывернуло наизнанку?
Впрочем, мать многое забыла. Забыла, о чём предупреждала дочь, но было поздно, Игорёк уже нырнул в какие-то свои алкогольные омуты, и выбираться оттуда не собирался, и стало ясно, что из родственного сострадания придётся волочить его за собой до конца жизни, хоть бы они и скандалили каждый день, Игорёк – с каким-то наглым огоньком в глазах, на праве страдальца, мать – со своим обычным, почти переигранным надрывом, который она вкладывала во всё, что делала.
И вот всё то же самое на прошлой неделе. Мать позвонила пожаловаться, что Игорёк опять вернулся грязный и избитый. Дочь не удержалась и позлорадствовала в ответ. Поругались страшно.
Она наплакалась. Спать, наверное, не стоило, чтобы следить за уровнем воды, но она всё равно уснула, назло кому-то. Может, подумала она (на самом деле не очень-то веря в такую возможность) она захлебнётся во сне грязной водой, тогда все что-то поймут и о чём-то пожалеют.
Утром вода снова прибыла. Вдруг стало очень страшно, и страшнее всего – что ничего не предпринять. Будто заперта в водной тюрьме. Она выглянула в окно без какой-то надежды.
Вода стояла, всё ещё как будто неподвижная, будто не прибывала по мере в час из какого-то своего внутреннего истока. Как омытая, полированная плитка, она стояла, и хоть бы рыба плеснула, или струя переплелась с другою, но нет. Кое-где её перерывали крыши домов (она порадовалась, что дед строил дом на фундаменте повыше, а зачем – никому не рассказал), кое-где мусор плыл, целые острова прошлогодней травы, лёд с пластиковым блеском на тающих гранях, даже берёза, вырванная где-то с корнем, вокруг них ещё рябили рытвинки в потревоженной течи, но в остальном – огромное жидкое зеркало.
Это было огромное, неповоротливое, всесокрушающее водяное тело, вобравшее тонны ила, тяжёлого мусора, может, даже трупы… Она оттолкнулась от слухового окна и прошла в глубь мансарды, чтобы его не видеть, иначе бы снова заплакала, и тогда бы точно обессилела.
Ей вдруг пришла идея построить плот, и она попыталась вырвать дверь, потом в каком-то непонятном ей самой приступе начала рвать её, тянуть, бить по петлям каким-то хламом, но дед строил на совесть – дверь устояла. Подумала о том, как будет объяснять матери искалеченную дверь, но тут вспомнила, что дом пострадал куда как сильнее, и что она сама на какие-то часы отстоит от погружения в тёмные воды.
Да, нечего было ждать. Она одна в посёлке. Скоро умрёт.
Она-мать снова наругала себя за панику.
III
Вот так всегда – сделала что-то, глупое, но хоть безопасное, и тут же за окном выросла огромная чёрная смерть в массе воды. Мать всегда её упрекала пессимизмом, мол, другие живут и хуже. Да она и сама знала, что живут хуже, только и их жизнь отличной не назовёшь. Она слишком рано это поняла, и это её отравляло. Она-то не хотела так жить, зарабатывая невроз, цирроз и пожизненный алкоголизм, она не хотела к пятидесяти поседеть на полголовы, как мать. Не хотела умирать одна, в госпитале, после того как единственная внучка отговорилась дипломом и сбросила трубку.
Нет, про бабушку было думать нельзя, иначе хоть тут умирай от тоски.
Но она всё равно стала думать про бабушку.
Мама позвонила ей на работу и рыдала, не могла ничего сказать, да и не надо было ничего говорить. Слава богу она сама забирала тело, дочь в это не ввязывала, а дочь – что она? Ей надо было защищать диплом, надо было работать, надо было сделать последний рывок. Наверное, так думала мама, а она не могла даже пошевелиться, потому что ей казалось, будто она выплакала все свои потроха. После похорон пришлось заниматься разбором вещей, продавать квартиру и выкуривать оттуда Игорька, который был в запое, и так и не понял, что обрушилось на их семью.
Уже потом она вспомнила про бабушкин звонок и про то, что почти сразу сбросила, потому что неприятно было слушать и не узнавать странный, высокий, свистящий голос, вырождающийся в шёпот из-за обильного поражения лёгкого. Она уверила себя в том, что позвонит потом, и ещё поговорит с бабушкой. Но – нет.
Она машинально делала мучную баланду – из еды спасла только муку, и вспомнила, как бабушка рассказывала о целинном способе есть её кашей, с водой. Делала и думала, думала, хоть и хотела бы прекратить… Но думание, как и воду, нельзя уже было остановить.
Ночь наступила как-то сразу, в одно мгновение. Небо немного очистилось, туман ушёл от холода – она закуталась во все тряпки, что нашла, даже, плюясь, в игорёшкины, но всё равно тряслась и боялась заснуть и застыть во сне.
Снаружи луна светила в кольцевом гало. От озноба, сонливости, и этого странного, безбрового лунного взгляда она как будто понемножку сошла с ума, но это было где-то в основе чувства, а сверху всё покрывала огромная усталость. Вроде двигалась, и жила, но на всём как будто лежала паутина, и мысли мелькали медленно и бессвязно.
Неподвижная вода стояла снаружи, как сжатый кулак, а она мысленно боролась с ней, чтобы не заплакать опять. И так наводнение, вытянуло из неё слишком много, и опять она открывала запертые двери, и опять вспоминала, думала, думала… если так нагружать сердце, то к пятидесяти поседеешь не на полголовы, а целиком, а поседеть она боялась раньше всего. До тех пор, как не очутилась посреди воды, посреди реки, которая уже была не Безымяшкой, песочным лягушатником, но некой Безымянной силой, холодным духом.
Вдруг она увидела, как вдалеке что-то блеснуло. Фонарь? Она подбежала к окну и, прежде чем успела осознать, закричала:
– Э-эй! Сюда! Я здесь!
Снова блеснуло. Луна отражалась вдали на поворачивающемся боку большой пластиковой бутылки.
Нет, про бабушку было думать нельзя, иначе хоть тут умирай от тоски.
Но она всё равно стала думать про бабушку.
Мама позвонила ей на работу и рыдала, не могла ничего сказать, да и не надо было ничего говорить. Слава богу она сама забирала тело, дочь в это не ввязывала, а дочь – что она? Ей надо было защищать диплом, надо было работать, надо было сделать последний рывок. Наверное, так думала мама, а она не могла даже пошевелиться, потому что ей казалось, будто она выплакала все свои потроха. После похорон пришлось заниматься разбором вещей, продавать квартиру и выкуривать оттуда Игорька, который был в запое, и так и не понял, что обрушилось на их семью.
Уже потом она вспомнила про бабушкин звонок и про то, что почти сразу сбросила, потому что неприятно было слушать и не узнавать странный, высокий, свистящий голос, вырождающийся в шёпот из-за обильного поражения лёгкого. Она уверила себя в том, что позвонит потом, и ещё поговорит с бабушкой. Но – нет.
Она машинально делала мучную баланду – из еды спасла только муку, и вспомнила, как бабушка рассказывала о целинном способе есть её кашей, с водой. Делала и думала, думала, хоть и хотела бы прекратить… Но думание, как и воду, нельзя уже было остановить.
Ночь наступила как-то сразу, в одно мгновение. Небо немного очистилось, туман ушёл от холода – она закуталась во все тряпки, что нашла, даже, плюясь, в игорёшкины, но всё равно тряслась и боялась заснуть и застыть во сне.
Снаружи луна светила в кольцевом гало. От озноба, сонливости, и этого странного, безбрового лунного взгляда она как будто понемножку сошла с ума, но это было где-то в основе чувства, а сверху всё покрывала огромная усталость. Вроде двигалась, и жила, но на всём как будто лежала паутина, и мысли мелькали медленно и бессвязно.
Неподвижная вода стояла снаружи, как сжатый кулак, а она мысленно боролась с ней, чтобы не заплакать опять. И так наводнение, вытянуло из неё слишком много, и опять она открывала запертые двери, и опять вспоминала, думала, думала… если так нагружать сердце, то к пятидесяти поседеешь не на полголовы, а целиком, а поседеть она боялась раньше всего. До тех пор, как не очутилась посреди воды, посреди реки, которая уже была не Безымяшкой, песочным лягушатником, но некой Безымянной силой, холодным духом.
Вдруг она увидела, как вдалеке что-то блеснуло. Фонарь? Она подбежала к окну и, прежде чем успела осознать, закричала:
– Э-эй! Сюда! Я здесь!
Снова блеснуло. Луна отражалась вдали на поворачивающемся боку большой пластиковой бутылки.
IV
Наутро она простудилась. Горло было как кусок сырого мяса. Она хотела заплакать от этого, потому что ненавидела болезнь, уж лучше было умирать, захлёбываясь в грязной мутной воде.
Вскоре вода дошла до лестничного проёма и уже начинала плескать на пол мансарды. Она поняла, что теперь уже точно дом пропитался водой, придётся сносить, значит, пропадёт даром вся дедова работа. Да что там дедова работа?! Она тут, умирает.
Снова сделала мучного клейстера. Чистая вода почти закончилась. Плакать было нельзя, не то – обезвоживание. Или как там говорили на ОБЖ?
Нет, нельзя думать про ОБЖ, иначе вспомнится и школа, и как они до утра делали уроки, и мама кричала и возила лицом по тетрадке, и у неё захватывало дух от несправедливости и несчастья. Хотелось бы повозить её лицом по бумагам в ответ. Но случая как-то не предоставлялось. А теперь уже и не представится. Может, она хоть помучается пропажей дочери. Может, тогда поймёт, что Игорь был виноват, что он вытянул из них обеих всю жизнь. Какая жизнь, когда он припрётся, начинает стучать в дверь и жаловаться, что мать выгнала, и чтобы дали на водку.
Надо было выбираться на крышу.
Она широко открыла слуховое окно, раскачала рюкзак с ноутбуком, мукой, забросила его наверх, замерла. Она подумала, что вот, сейчас он скатится, и она услышит только плеск, тогда можно сразу же топиться, но нет, рюкзак утвердился где-то на шиферном скате.
Она замоталась во все возможные тряпки для тепла и посмотрела вокруг. Скоро домик уйдёт под воду. Вспоминать о нём нечего, одни скандалы, кроме какого-то отдалённого воспоминания детства, когда здесь смеялись и играли в лото… Кто? Когда? Было ли вообще такое время?
Она высунулась в окно по пояс. Крыша недалеко нависала над ним, надо было как-то закинуть на неё ноги, дальше пойдёт. От болезни уже пошла слабость, вода коричнево плескалась под игорёшкиной раскладушкой. Надо было выбираться быстрее.
Осторожно поставила ноги на оконную раму. Сердце вдруг заколотилось от испуга. Развернулась, перехватывая руками и раня их о сколы шифера и выпадом утвердила первую ногу на скат. Установила равновесие, держась пальцами за малюсенький гвоздик. Потом резко подтянула вторую ногу, как огромная лягушка, зашаталась между крышей и водой, но всё же уронила себя вперёд, на конёк крыши.
Дед, ей незнакомый, умерший задолго до её рождения, действительно строил на совесть – окно выдержало. Но она его не поблагодарила, повернулась к небу и задумалась.
Хотелось только лежать. Болезнь разгоняла от живота к ногам, рукам, щекам жар. Это было плохое тепло, не такое, какое можно было противопоставить окружающему заморозку. Но она всё же села и наконец-то осмотрелась.
Почти все дома ушли под воду. Лишь по горбатым выпуклостям и косицам мелких течений можно было угадать, что когда-то там стоял домик баб Нины, а вон там жила тёть Зоя. Теперь была только неподвижная, тусклая вода, в которой почти не отражалось беленькое небо. И облаков-то вроде не было, только какая-то дымка, от которой было не угадать, где солнце, и небо казалось матовым, как покрытое налётом.
У неё больше не было сил думать. Она снова легла, положив ледяную руку на разгорающийся лоб, и всё равно мысли потекли изнутри сами собой.
Вскоре вода дошла до лестничного проёма и уже начинала плескать на пол мансарды. Она поняла, что теперь уже точно дом пропитался водой, придётся сносить, значит, пропадёт даром вся дедова работа. Да что там дедова работа?! Она тут, умирает.
Снова сделала мучного клейстера. Чистая вода почти закончилась. Плакать было нельзя, не то – обезвоживание. Или как там говорили на ОБЖ?
Нет, нельзя думать про ОБЖ, иначе вспомнится и школа, и как они до утра делали уроки, и мама кричала и возила лицом по тетрадке, и у неё захватывало дух от несправедливости и несчастья. Хотелось бы повозить её лицом по бумагам в ответ. Но случая как-то не предоставлялось. А теперь уже и не представится. Может, она хоть помучается пропажей дочери. Может, тогда поймёт, что Игорь был виноват, что он вытянул из них обеих всю жизнь. Какая жизнь, когда он припрётся, начинает стучать в дверь и жаловаться, что мать выгнала, и чтобы дали на водку.
Надо было выбираться на крышу.
Она широко открыла слуховое окно, раскачала рюкзак с ноутбуком, мукой, забросила его наверх, замерла. Она подумала, что вот, сейчас он скатится, и она услышит только плеск, тогда можно сразу же топиться, но нет, рюкзак утвердился где-то на шиферном скате.
Она замоталась во все возможные тряпки для тепла и посмотрела вокруг. Скоро домик уйдёт под воду. Вспоминать о нём нечего, одни скандалы, кроме какого-то отдалённого воспоминания детства, когда здесь смеялись и играли в лото… Кто? Когда? Было ли вообще такое время?
Она высунулась в окно по пояс. Крыша недалеко нависала над ним, надо было как-то закинуть на неё ноги, дальше пойдёт. От болезни уже пошла слабость, вода коричнево плескалась под игорёшкиной раскладушкой. Надо было выбираться быстрее.
Осторожно поставила ноги на оконную раму. Сердце вдруг заколотилось от испуга. Развернулась, перехватывая руками и раня их о сколы шифера и выпадом утвердила первую ногу на скат. Установила равновесие, держась пальцами за малюсенький гвоздик. Потом резко подтянула вторую ногу, как огромная лягушка, зашаталась между крышей и водой, но всё же уронила себя вперёд, на конёк крыши.
Дед, ей незнакомый, умерший задолго до её рождения, действительно строил на совесть – окно выдержало. Но она его не поблагодарила, повернулась к небу и задумалась.
Хотелось только лежать. Болезнь разгоняла от живота к ногам, рукам, щекам жар. Это было плохое тепло, не такое, какое можно было противопоставить окружающему заморозку. Но она всё же села и наконец-то осмотрелась.
Почти все дома ушли под воду. Лишь по горбатым выпуклостям и косицам мелких течений можно было угадать, что когда-то там стоял домик баб Нины, а вон там жила тёть Зоя. Теперь была только неподвижная, тусклая вода, в которой почти не отражалось беленькое небо. И облаков-то вроде не было, только какая-то дымка, от которой было не угадать, где солнце, и небо казалось матовым, как покрытое налётом.
У неё больше не было сил думать. Она снова легла, положив ледяную руку на разгорающийся лоб, и всё равно мысли потекли изнутри сами собой.
V
Вот на первом сентября почти у всех мамы и папы в беленьком, а она думала, где её папа? Мама никогда не говорила, а она не спрашивала, чтобы не выглядело так, будто попрошайничает. Потом классная руководительница держала дневник и спрашивала: «тебе нравится дурой быть?» а мама вежливо бледнела и смотрела страшными глазами. Но потом снова бабушка, значит, в доме тепло от печи, и кисель настаивается в огромной медной кастрюле. На экзаменах было холодно от волнения. Потом, когда обмывали баллы, какая-то бабушкина подруга пристала с детьми, хотела познакомить со своим внуком, но он оказался каким-то неблаговидным, и бабушка долго ругалась на них. Потом университет. Надо было написать хоть одногруппнице, с которой всё ещё болтали время от времени. Но у неё и своих проблем по горло. Говорит, мама умирает, и всюду все умирают, и убивают, и всюду корчатся, и страдание невыносимое, как вода, везде и всюду.
А вот теперь вода съела весь мир. Наступил потоп. Может, мама с Игорёшкой тоже умерли? Может, тогда ей тоже нужно умереть, и поскорее?
День тянулся-тянулся, потом лопнул. Из его треснувшего бока вывалилось синее вечернее небо.
Вдруг запахло, как в могильнике. Медленно, повинуясь тихому течению наводнения, к ней плыл огромный чёрно-белый кит.
Нет, это был не кит, а надутая корова. Видно, её смыло в первый день потопа каким-то потоком из прорванной дамбы, и только сейчас она доплыла сюда. Даже на холоде от неё пахло гниющей мерзостью. Она послюнявила рукав и отвернулась, зажала нос, но всё равно обоняла смерть.
Вдруг что-то уткнулось в дом, сотрясая его, помимо волн, дрожью. Она подняла голову и застонала от обиды и отвращения. Корову прибило к её крыше. Пахло так, что кружилась голова и горло тянуло наизнанку. Она застонала от досады, кое-как перевернулась на живот, выставила ноги с крыши и со всей дури ткнула в тушу.
Корова заколыхалась, забулькала. Она испугалась, что тушу разорвёт газами, но не разорвало, только что-то перевернулось изнутри, и туша закачалась от удара. Она снова ударила, и толкала её изо всех сил, рыча и внутренне сжимаясь от ожидания, когда же лопнет шкура. Но корову вдруг вновь подхватило течение – и она поплыла вдаль, и запах постепенно исчез. Теперь пахло только сыростью и близкой ночью.
И снова стало тихо. Ни воды не плеснёт, ни ветра.
Холодало. Плохой сырой холод напитывал ткань, и раньше, чем она это поняла, перестала чувствовать пальцы, и оживить их не могла.
Она опять подумала, что замерзает. Потом снова ощутила на коже грязь и медленно, остаточно двинулась, чтобы стереть кляксу со щеки, но клякса всё не стиралась. Это была грязь другого свойства. Всё это сменялось и вертелось в голове мгновенно, меньше, чем за секунду. Потом она вдруг остро ощутила, опять, что она совсем одна, а кругом только первобытные воды, и что гниль пустоты поднимается, и что она убьёт её раньше, чем утопление, и даже раньше, чем холод.
Она снова вспомнила бабушкин звонок и ещё смогла удивиться тому, как её может это мучить, когда она и сама утекает, уплывает в какие-то другие тёмные воды, но вина была слишком большой, чтобы от неё отмахнуться, и она стала просить прощения.
Надо было либо молиться, но она всё ещё не хотела, потому что это было как попрошайничество, а этого она терпеть не могла. Ей показалось, что в отказе было своего рода странное мужество, и она подбодрилась. Но что же, что же всё не давало покоя, пробивалось через усталость, через блокаду холода, сна и обессиленных мыслей?
Она снова потёрла грязь на щеке. Был ли смысл её счищать, когда всё кругом было грязью? Нет, наверное. Есть ли смысл сейчас что-то говорить, какие-то слова к близким? Наверное, тоже нет. Но ей вдруг захотелось, чтобы зазвучала речь, и она сказала:
– Да… простите, что сбежала. Сама виновата. Только жаль теперь, что будут плакать, изведутся все.
Ладно, всё что у них было, то прошло, это всё можно пережить и забыть, и жить дальше. Если бы она не уехала, то они бы что-то придумали, и что-то построили, и всё бы ожило.
Стало совсем плохо. Что-то сдавило и промокло в носу и в горле.
Она лежала и как-то странно чувствовала плеск воды и рёбра шифера под спиной. Кругом было темно. Может, она уже умерла от одиночества, и сама того не поняла. Закроешь глаза, откроешь ли – всё равно, всё одинаково.
Где-то справа плеснуло.
Она повернулась на другой бок, чтобы снова не обмануться. Наверное, уже начались галлюцинации? Или галлюцинации – это не про гипотермию?
Она так и лежала, не кричала, не звала, уже ничего не делала, просто выжидала.
Но она не ошиблась.
И плеск усилился, и что-то разбивало мёртвую воду, какой-то разговор или звук мотора.
И скоро уже крышу, тёмную воду, паводковый сор осветил носовой фонарь большой лодки.
А вот теперь вода съела весь мир. Наступил потоп. Может, мама с Игорёшкой тоже умерли? Может, тогда ей тоже нужно умереть, и поскорее?
День тянулся-тянулся, потом лопнул. Из его треснувшего бока вывалилось синее вечернее небо.
Вдруг запахло, как в могильнике. Медленно, повинуясь тихому течению наводнения, к ней плыл огромный чёрно-белый кит.
Нет, это был не кит, а надутая корова. Видно, её смыло в первый день потопа каким-то потоком из прорванной дамбы, и только сейчас она доплыла сюда. Даже на холоде от неё пахло гниющей мерзостью. Она послюнявила рукав и отвернулась, зажала нос, но всё равно обоняла смерть.
Вдруг что-то уткнулось в дом, сотрясая его, помимо волн, дрожью. Она подняла голову и застонала от обиды и отвращения. Корову прибило к её крыше. Пахло так, что кружилась голова и горло тянуло наизнанку. Она застонала от досады, кое-как перевернулась на живот, выставила ноги с крыши и со всей дури ткнула в тушу.
Корова заколыхалась, забулькала. Она испугалась, что тушу разорвёт газами, но не разорвало, только что-то перевернулось изнутри, и туша закачалась от удара. Она снова ударила, и толкала её изо всех сил, рыча и внутренне сжимаясь от ожидания, когда же лопнет шкура. Но корову вдруг вновь подхватило течение – и она поплыла вдаль, и запах постепенно исчез. Теперь пахло только сыростью и близкой ночью.
И снова стало тихо. Ни воды не плеснёт, ни ветра.
Холодало. Плохой сырой холод напитывал ткань, и раньше, чем она это поняла, перестала чувствовать пальцы, и оживить их не могла.
Она опять подумала, что замерзает. Потом снова ощутила на коже грязь и медленно, остаточно двинулась, чтобы стереть кляксу со щеки, но клякса всё не стиралась. Это была грязь другого свойства. Всё это сменялось и вертелось в голове мгновенно, меньше, чем за секунду. Потом она вдруг остро ощутила, опять, что она совсем одна, а кругом только первобытные воды, и что гниль пустоты поднимается, и что она убьёт её раньше, чем утопление, и даже раньше, чем холод.
Она снова вспомнила бабушкин звонок и ещё смогла удивиться тому, как её может это мучить, когда она и сама утекает, уплывает в какие-то другие тёмные воды, но вина была слишком большой, чтобы от неё отмахнуться, и она стала просить прощения.
Надо было либо молиться, но она всё ещё не хотела, потому что это было как попрошайничество, а этого она терпеть не могла. Ей показалось, что в отказе было своего рода странное мужество, и она подбодрилась. Но что же, что же всё не давало покоя, пробивалось через усталость, через блокаду холода, сна и обессиленных мыслей?
Она снова потёрла грязь на щеке. Был ли смысл её счищать, когда всё кругом было грязью? Нет, наверное. Есть ли смысл сейчас что-то говорить, какие-то слова к близким? Наверное, тоже нет. Но ей вдруг захотелось, чтобы зазвучала речь, и она сказала:
– Да… простите, что сбежала. Сама виновата. Только жаль теперь, что будут плакать, изведутся все.
Ладно, всё что у них было, то прошло, это всё можно пережить и забыть, и жить дальше. Если бы она не уехала, то они бы что-то придумали, и что-то построили, и всё бы ожило.
Стало совсем плохо. Что-то сдавило и промокло в носу и в горле.
Она лежала и как-то странно чувствовала плеск воды и рёбра шифера под спиной. Кругом было темно. Может, она уже умерла от одиночества, и сама того не поняла. Закроешь глаза, откроешь ли – всё равно, всё одинаково.
Где-то справа плеснуло.
Она повернулась на другой бок, чтобы снова не обмануться. Наверное, уже начались галлюцинации? Или галлюцинации – это не про гипотермию?
Она так и лежала, не кричала, не звала, уже ничего не делала, просто выжидала.
Но она не ошиблась.
И плеск усилился, и что-то разбивало мёртвую воду, какой-то разговор или звук мотора.
И скоро уже крышу, тёмную воду, паводковый сор осветил носовой фонарь большой лодки.