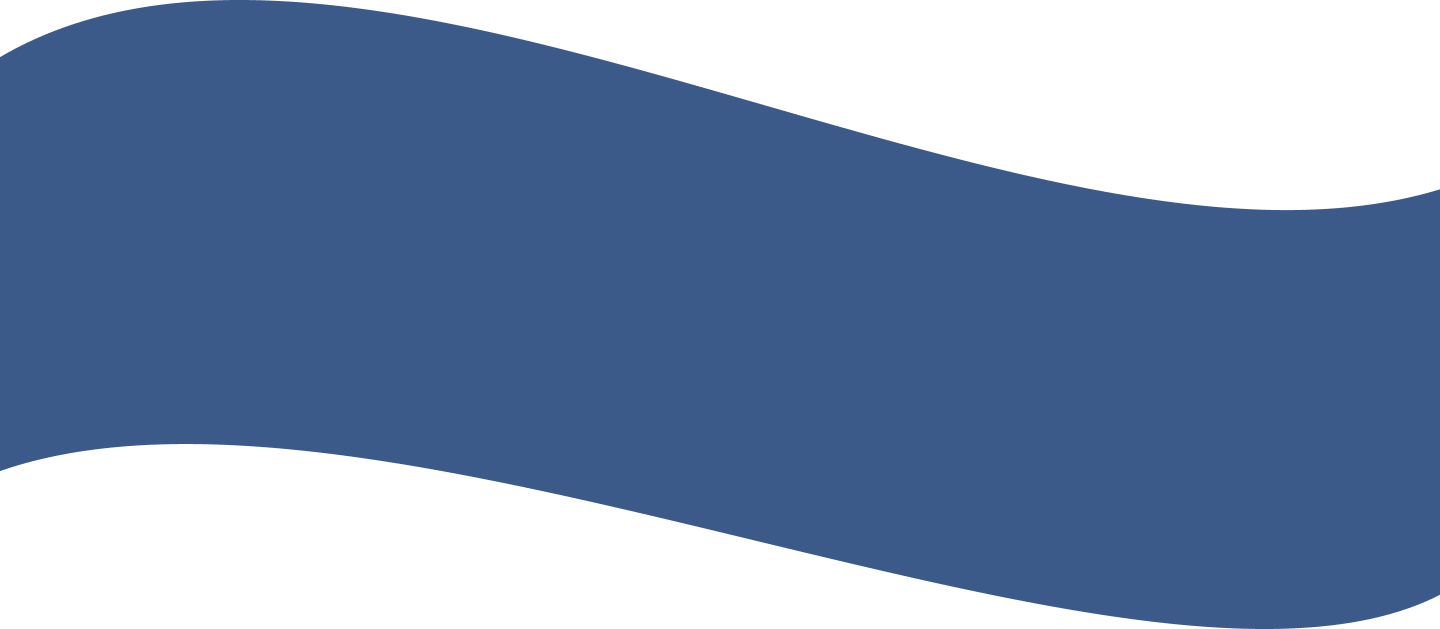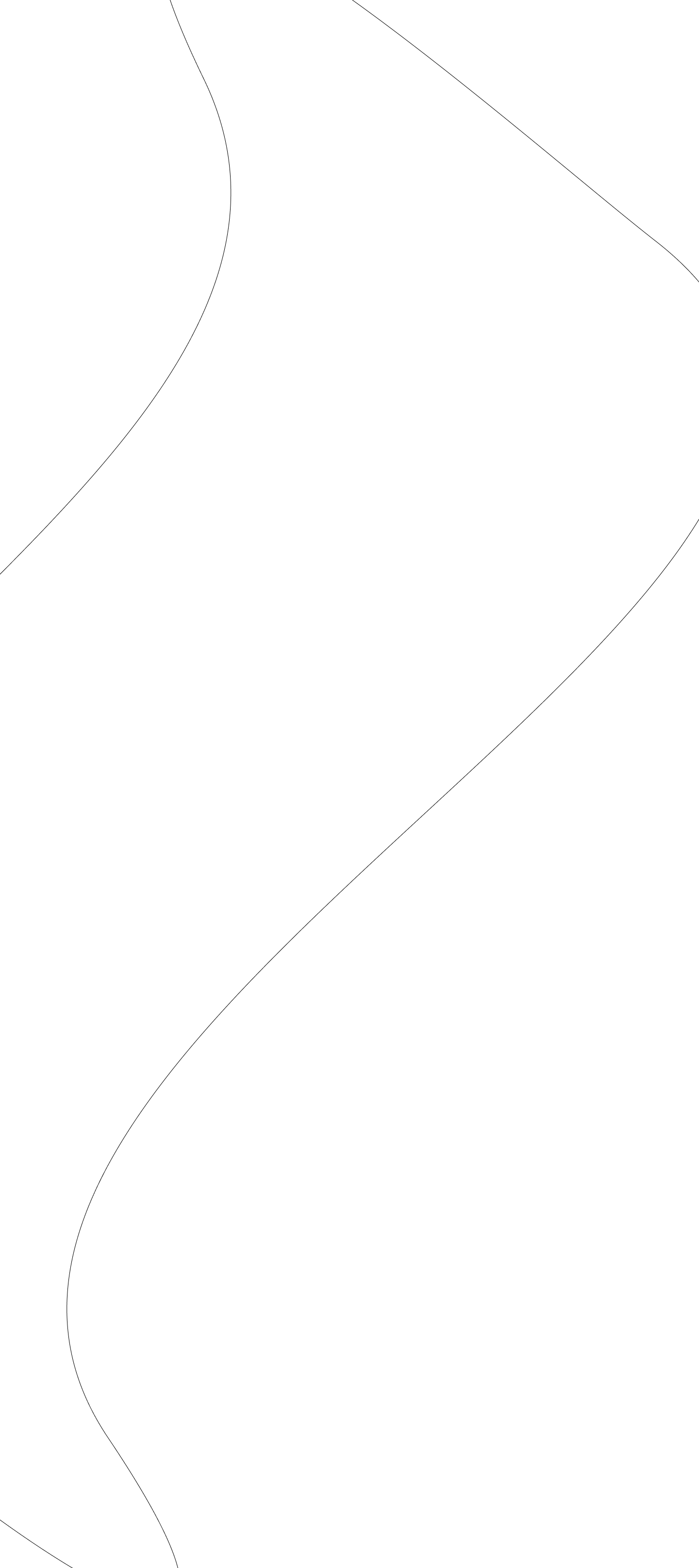

28.02.2025
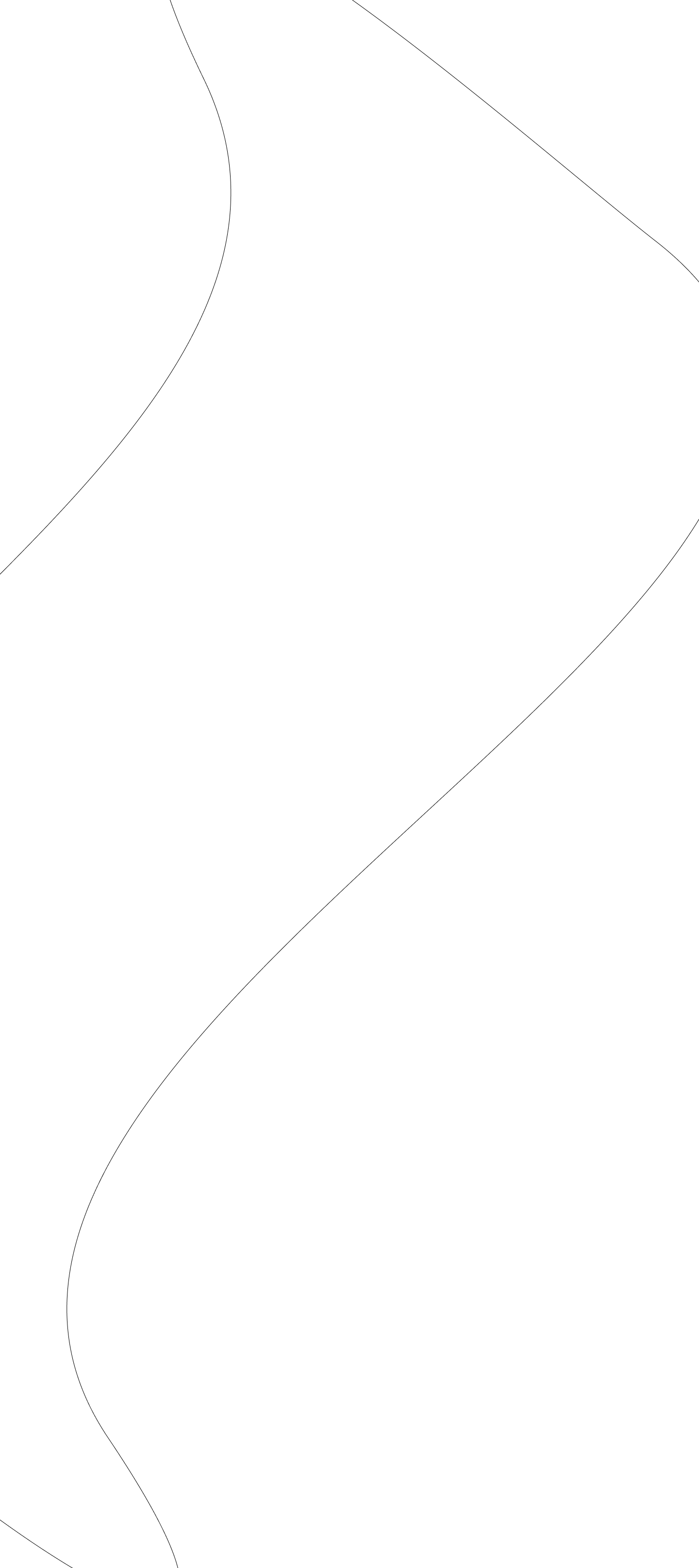

НЕБЫЛИЦА О ФРОНТОВИЧКЕ:
О благотворительном спектакле «Небылица»
18 и 24 февраля в концертном зале ТГУ артисты проекта «Благотворительность через искусство» представляли спектакль «Небылица» по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». Написанная в 2009 г. пронзительная пьеса 24-летнего драматурга (столько же, кстати, лет героине на момент начала действия – в июле 1946 г.), принесшая ей звание лауреата в номинации «Драматургия» премии «Дебют» и первое место в номинации «пьеса для большой сцены» фестиваля современной драматургии «Евразия-2009», крайне органично вписывается в трагический контекст сегодняшнего дня: невольно бегут мурашки, когда узнаешь, что сержант Небылица родом с Украины, куда не может вернуться, потому что вся ее родня погибла, или когда звучат слова Нины Васильевны, матери ее неверного, как окажется впоследствии, жениха: «А щас-то из Хохляндии всех сюда свозят. Им вроде как государство недоверие оказывает… Не все, конечно, предатели… Они и в шахтах работают, и на заводе»[1]. Воистину прав был Николай Коляда, говоря, что история Марии Небылицы, созданная его ученицей, – о том, что «люди какие были тогда, такие и остались сейчас. Любовь была любовью. Предательство было предательством». А культура всегда была осью истории, и жизнь всегда обнаруживала цикличность своей природы, а из вещного хаоса, извечного сора росло – что?.. Удалось ли показать на сцене ЦК ТГУ, что батуринская «Фронтовичка», переименованная в «Небылицу», – глубоко современная, а точнее – вневременная драма?..
Вполне. Есть в томской инкарнации Марии Петровны некая балаганность, невольно заставляющая припомнить, что ее имя и отчество отсылают к супруге Петрушки, радостно провожающей мужа в армию и ожидающей его возвращения; говорящая же фамилия Небылица указывает на несбыточность этого ярмарочного сценария – как и невозможность героини отрастить волосы или расстаться с гимнастеркой, что символизировало бы преодоление травмирующего опыта – но не войны, а мирной жизни, в которой «натешившийся» возлюбленный, верный на поле боя, изменяет ей и, подобно Рогожину Достоевского, вонзает в живот тупой нож, а подавляющее большинство других мужчин видят лишь объект сексуального желания… Два воплощения произведения – батуринская пьеса «Фронтовичка» и спектакль Екатерины Костиной «Небылица» – имеют знаковый смысл с точки зрения соотношения заглавий: в них как в зеркале отражаются онтологическое и антропологическое значение драмы, а точнее – обозначаются их нерасторжимость и общественно-философский подтекст, ибо, по словам С. Радик, «воюющие женщины и мужчины тоже приходят из дому, а иногда возвращаются туда. Они есть образ мира, формируемый и изменяемый войнами, которые ведут эти люди»; вот только вернуться домой Марии Небылице не суждено – после пятилетнего периода оседлой, но отнюдь не счастливой жизни героиня, по словам Д. Жарковой, «находится в бесконечном поиске, в постоянной невозможности обрести жизненную стабильность и простое женское счастье». Постановка дает зримо ощутить этот мирообраз, онтологию послевоенной и современной женской судьбы.
Другое дело, возникает ощущение, что постановщик Е. Костина сосредоточилась прежде всего на том, чтобы в максимальной степени сосредоточить действие на рефреном звучащей в пьесе фразе, произнесенной сначала конформистом и, мягко охарактеризуем его так, любителем женщин Марком Анатольевичем, гордо рекомендующимся: «Я ведь директор Дома культуры имени Розы Люксембург!»: «От вас – ни субботника, ни урока боевой славы, ни участия, никакой инициативы! Зачем вы живете, вообще?», а после – беззаветно и безответно влюбленным музыкантом Алешей Груздевым, что при последней встрече с любимой женщиной напористо спрашивает: «Мария Петровна! Я вам нужен? Отвечайте. Я нужен вам? Вам хоть кто-нибудь, вообще, нужен? Или так – главное, чтоб не мешали, чтобы в душу не лезли? Ради кого вы живете, вообще? Хоть бы скотину завела!», а затем агрессивно – а ведь за несколько реплик до этого умильно (именно так это было обыграно исполнителем роли Артемом Тюниковым, которого автор этих строк искренне благодарит за приглашение посетить спектакль) признавался: «Как я долго мечтал ворваться к вам, в эту комнату, увидеть, как вы тут живете… Чтобы вы заболели, мечтал, а я бы за вами ухаживал… А вы все не болеете и не болеете! Но теперь уже я не выдержал…» – повторяющим: «Ради кого живете, Мария Петровна?». Потому и «Небылица» – видано ли, чтобы способная простить предательство жениха, но не смириться с потребительским к ней отношением героиня войны становится саркастичной, даже циничной: «Че такое? Че такая неподвижная личность сделалась, а, Матвей?»? Оказывается (удивительно ли?) – да, и Мария Небылица, провоцирующая наскоро сочиненной ею небылицей неверного возлюбленного на убийство, а выжив, мечтает со столь же неприкаянными скиталицами-подругами: «Дойдем до океана – отмоемся, найдем себе рыбаков, нарожаем…», хотя за пять лет, что в совокупности длится действие, по авторитетному мнению некогда мотоциклиста Ильи, целоваться «так и не доучилась…». Она, впрочем, и сама это прекрасно осознает – «но помечтать-то можно…». Вот на этой грубости и строится образ героини в спектакле; возможно, взгляд этот чуть упрощает более неоднозначный характер, и растворяющийся в нежности “chanson d’adieu”, и взвихряющийся в страстной, «незабываемой» венгерке, но – «женское лицо» войны может быть и таким…
Главное – другое: история о том, как «война выпотрошила из вас женщину, Мария», но Мария Небылица продолжает мечтать, и происходит это под музыку от Вертинского до Бетховена – ибо «в войне люди не побеждают, и страны не побеждают. Просто наступает новый день, и он такой солнечный, что можно, наконец, вынести на улицу и высушить все подушки, валенки, перины, поставить граммофон на подоконник и услышать Бетховена. Побеждают не люди, не страны, а Бетховен», – поможет реабилитации страдающего от тяжелой болезни трехлетнего мальчика. И пусть он никогда не узнает о том, что происходило в конце февраля 2025 г. в концертном зале ТГУ – но пусть в его случае, как и в спектакле Е. Костиной – в котором, к слову, в отличие от пьесы А. Батуриной затемнение на некоторое время скрывает последствия неудачного покушения Матвея, заставляя сомневаться, что все же торжествует в итоге – жизнь или смерть, – победит жизнь – и пусть «побеждает всегда…».
[1] Текст драмы цит. по: Батурина А. Фронтовичка. Пьеса в двух действиях // Урал. – 2009. – № 5. – С. 176–204.
Вполне. Есть в томской инкарнации Марии Петровны некая балаганность, невольно заставляющая припомнить, что ее имя и отчество отсылают к супруге Петрушки, радостно провожающей мужа в армию и ожидающей его возвращения; говорящая же фамилия Небылица указывает на несбыточность этого ярмарочного сценария – как и невозможность героини отрастить волосы или расстаться с гимнастеркой, что символизировало бы преодоление травмирующего опыта – но не войны, а мирной жизни, в которой «натешившийся» возлюбленный, верный на поле боя, изменяет ей и, подобно Рогожину Достоевского, вонзает в живот тупой нож, а подавляющее большинство других мужчин видят лишь объект сексуального желания… Два воплощения произведения – батуринская пьеса «Фронтовичка» и спектакль Екатерины Костиной «Небылица» – имеют знаковый смысл с точки зрения соотношения заглавий: в них как в зеркале отражаются онтологическое и антропологическое значение драмы, а точнее – обозначаются их нерасторжимость и общественно-философский подтекст, ибо, по словам С. Радик, «воюющие женщины и мужчины тоже приходят из дому, а иногда возвращаются туда. Они есть образ мира, формируемый и изменяемый войнами, которые ведут эти люди»; вот только вернуться домой Марии Небылице не суждено – после пятилетнего периода оседлой, но отнюдь не счастливой жизни героиня, по словам Д. Жарковой, «находится в бесконечном поиске, в постоянной невозможности обрести жизненную стабильность и простое женское счастье». Постановка дает зримо ощутить этот мирообраз, онтологию послевоенной и современной женской судьбы.
Другое дело, возникает ощущение, что постановщик Е. Костина сосредоточилась прежде всего на том, чтобы в максимальной степени сосредоточить действие на рефреном звучащей в пьесе фразе, произнесенной сначала конформистом и, мягко охарактеризуем его так, любителем женщин Марком Анатольевичем, гордо рекомендующимся: «Я ведь директор Дома культуры имени Розы Люксембург!»: «От вас – ни субботника, ни урока боевой славы, ни участия, никакой инициативы! Зачем вы живете, вообще?», а после – беззаветно и безответно влюбленным музыкантом Алешей Груздевым, что при последней встрече с любимой женщиной напористо спрашивает: «Мария Петровна! Я вам нужен? Отвечайте. Я нужен вам? Вам хоть кто-нибудь, вообще, нужен? Или так – главное, чтоб не мешали, чтобы в душу не лезли? Ради кого вы живете, вообще? Хоть бы скотину завела!», а затем агрессивно – а ведь за несколько реплик до этого умильно (именно так это было обыграно исполнителем роли Артемом Тюниковым, которого автор этих строк искренне благодарит за приглашение посетить спектакль) признавался: «Как я долго мечтал ворваться к вам, в эту комнату, увидеть, как вы тут живете… Чтобы вы заболели, мечтал, а я бы за вами ухаживал… А вы все не болеете и не болеете! Но теперь уже я не выдержал…» – повторяющим: «Ради кого живете, Мария Петровна?». Потому и «Небылица» – видано ли, чтобы способная простить предательство жениха, но не смириться с потребительским к ней отношением героиня войны становится саркастичной, даже циничной: «Че такое? Че такая неподвижная личность сделалась, а, Матвей?»? Оказывается (удивительно ли?) – да, и Мария Небылица, провоцирующая наскоро сочиненной ею небылицей неверного возлюбленного на убийство, а выжив, мечтает со столь же неприкаянными скиталицами-подругами: «Дойдем до океана – отмоемся, найдем себе рыбаков, нарожаем…», хотя за пять лет, что в совокупности длится действие, по авторитетному мнению некогда мотоциклиста Ильи, целоваться «так и не доучилась…». Она, впрочем, и сама это прекрасно осознает – «но помечтать-то можно…». Вот на этой грубости и строится образ героини в спектакле; возможно, взгляд этот чуть упрощает более неоднозначный характер, и растворяющийся в нежности “chanson d’adieu”, и взвихряющийся в страстной, «незабываемой» венгерке, но – «женское лицо» войны может быть и таким…
Главное – другое: история о том, как «война выпотрошила из вас женщину, Мария», но Мария Небылица продолжает мечтать, и происходит это под музыку от Вертинского до Бетховена – ибо «в войне люди не побеждают, и страны не побеждают. Просто наступает новый день, и он такой солнечный, что можно, наконец, вынести на улицу и высушить все подушки, валенки, перины, поставить граммофон на подоконник и услышать Бетховена. Побеждают не люди, не страны, а Бетховен», – поможет реабилитации страдающего от тяжелой болезни трехлетнего мальчика. И пусть он никогда не узнает о том, что происходило в конце февраля 2025 г. в концертном зале ТГУ – но пусть в его случае, как и в спектакле Е. Костиной – в котором, к слову, в отличие от пьесы А. Батуриной затемнение на некоторое время скрывает последствия неудачного покушения Матвея, заставляя сомневаться, что все же торжествует в итоге – жизнь или смерть, – победит жизнь – и пусть «побеждает всегда…».
[1] Текст драмы цит. по: Батурина А. Фронтовичка. Пьеса в двух действиях // Урал. – 2009. – № 5. – С. 176–204.

Евгений Третьяков — доцент кафедры русской и зарубежной литературы ФилФ ТГУ