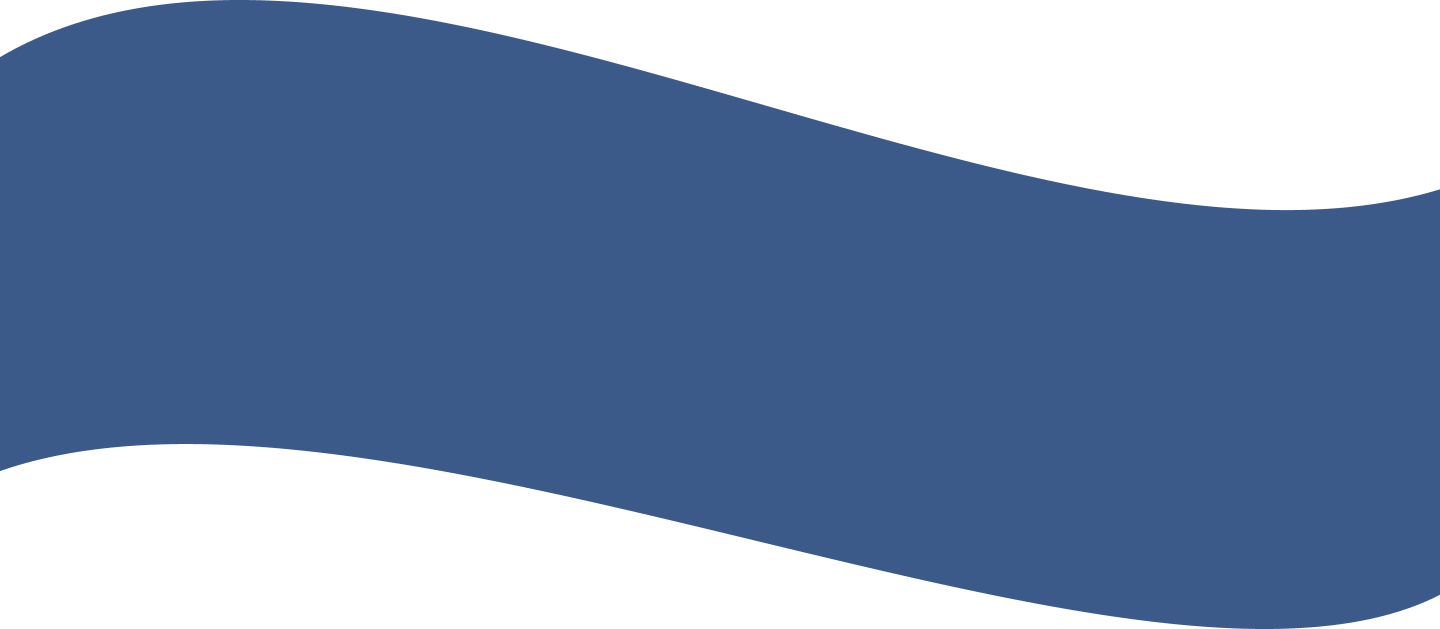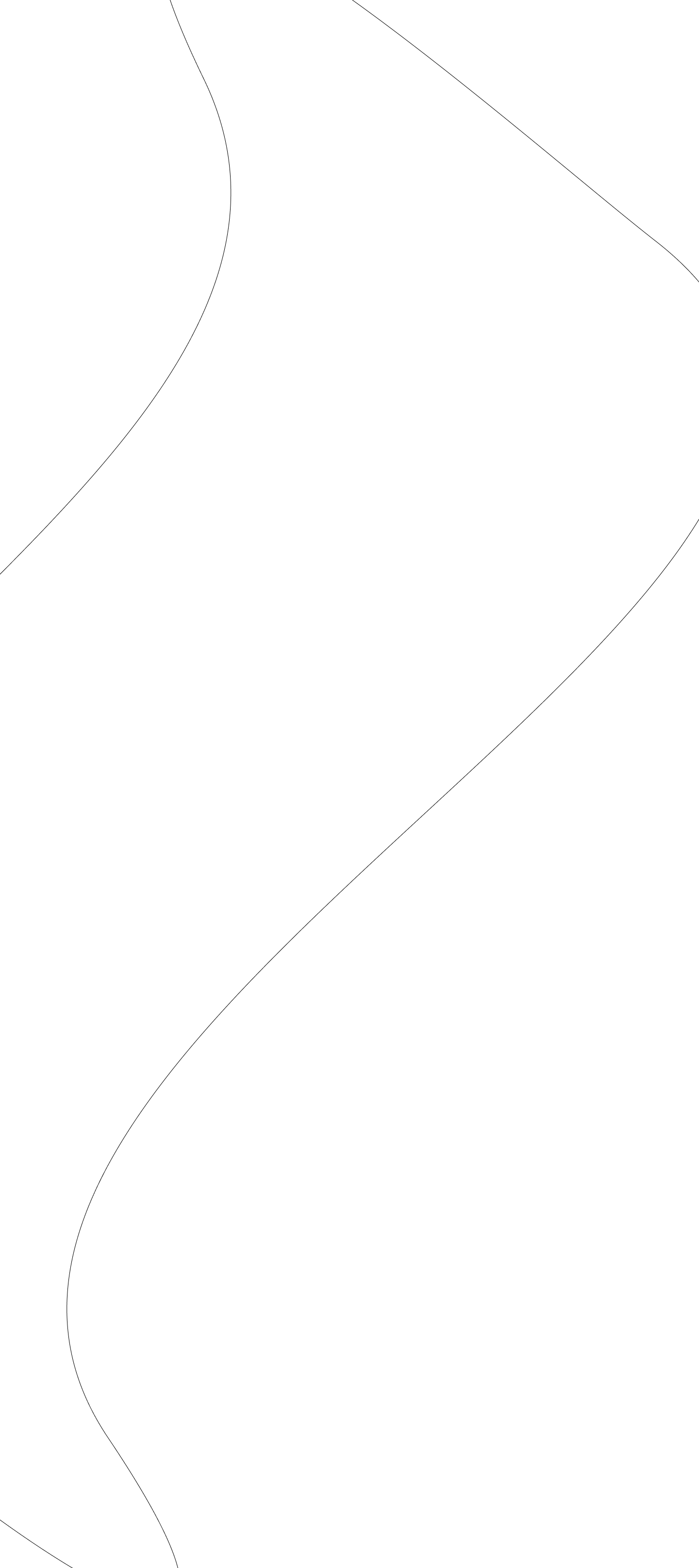

27.11.2024
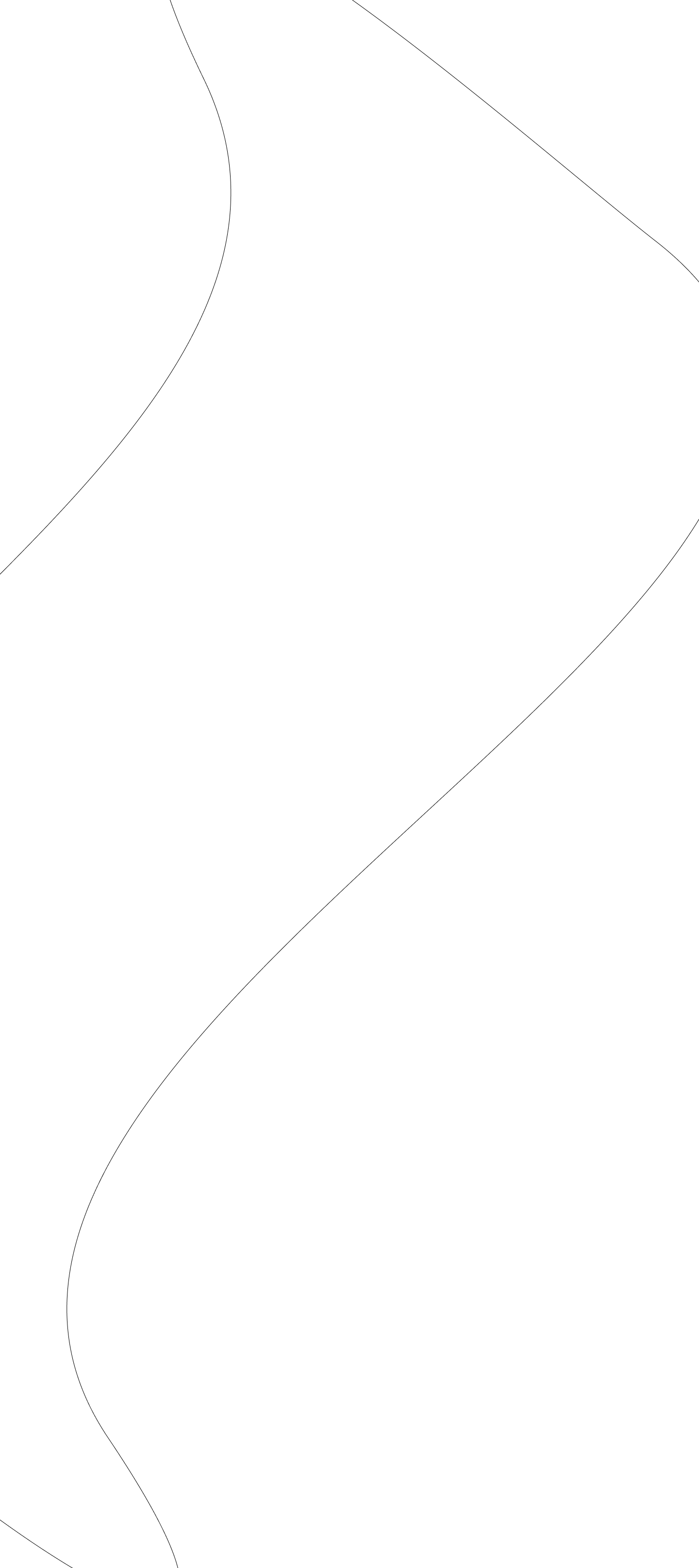

«А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно»
15 и 16 ноября в томском ТЮЗе прошли премьерные показы спектакля Ивана Орлова «Любовь» по пьесе А. Н. Островского «Поздняя любовь».
Мрачная история с неожиданно счастливым финалом в 1873 году удивила и озадачила критиков («Да неужели всё, что мы сейчас видели, была пьеса Островского?»). Сегодня Иван Орлов решил поставить эту комедию в стиле «готической мелодрамы» или «романтической истории». Попробуем понять, что создатели спектакля увидели в «Сценах из жизни захолустья», причем здесь любовь и насколько у режиссера получилось разрешить парадоксы пьесы.
Дом гадалки Шабловой. Обедневший честный адвокат Маргаритов пытается наладить дела: когда-то у него украли документ, а за этим – потеря репутации, нищета и мысли о самоубийстве. Его дочь Людмила (ради которой от страшных мыслей пришлось отказаться) во всем отцу помогает и беззаветно его любит. Их соседи – хозяйка дома Шаблова и её два сына. Глуповатый, но старательный и покладистый Дормедонт и Николай – тоже адвокат, умный и беспутный, промотавший свое состояние в кабаках и задолжавший всему свету.
В этом мрачном мире долговых ям и трактиров, алчности и высокомерия одних и нищей честности других развивается странный сюжет, приводящий к комедийной развязке. Людмила влюблена в Николая. В его распутствах, долгах, самолюбии и пьянстве она умудряется увидеть благородство. Реплики героини о достоинствах молодого адвоката – единственное (до конца пьесы), что должно убедить читателя и зрителя: Николай любви заслуживает. Героиня признается – это, возможно, её «последняя любовь», ради которой она готова на всё.
Это чувство (одновременно иррациональное и высокопарное) приводит её к преступлению и предательству отца: по просьбе Николая она соглашается выкрасть долговой документ и навлечь на родителя позор и новый уровень нищеты. И в тот момент, когда мир «захолустья» должен схлопнуться и утвердить абсолютную алчность и порочность, расцветающих на фоне человеческого несчастья, происходит внезапный – Deus ex machina – финал. Николай успел между сценами нравственно переродиться, затем обмануть распутную вдову (которой хотел отдать тот самый документ) и теперь готов отказаться от трактиров и начать трудовую жизнь. К счастью, находятся и деньги, которые спасут героя от долговой ямы, а Маргаритов, ранее не признававший в Николае человека, готов взять его в напарники и женить на своей дочери.
Как пишет Татьяна Владимировна Москвина, отзывы о первом спектакле по пьесе пестрили словами «странно» и «парадоксально». Нет смысла подробно рассматривать все «за» и «против» пьесы, но хочется обозначить два момента.
Во-первых, чувство Людмилы – сложно назвать любовью. Из-за него Людмила сначала отдает последние деньги Николаю, а затем ради него крадет заемное письмо и тем самым ставит крест на возрождающейся карьере отца и обеспечивает ему репутацию нечестного человека. Безграничная доброта – даже не страсть («Этой мой долг» – уверяет Людмила) – к Николаю приводит к абсолютной беспощадности к своему отцу. Эта «любовь» сродни зависимости или догматизму, но о чем говорить точно не приходится, так о любви романтической.
Во-вторых, сложно поверить в нравственное перерождение и любовь Николая, который после признания Людмилы говорит: «Не в таком я теперь расположении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем, что ж, помеха небольшая…». По ходу пьесы герой уезжает с вдовой Лебедкиной «кататься» и ради этой же вдовы уговаривает Людмилу выкрасть документ. Затем проворачивает аферу с подменой заемного письма и, убедившись, что от Лебедкиной ничего не получит, становится честным человеком и примерным женихом.
Эти парадоксы пьесы невозможно не заметить. В таком случае у режиссера есть две стратегии. Либо поверить Островскому и постараться театральными средствами убедить зрителя в правдивости и естественности истории. Либо обыграть эту жанровую противоречивость, превратить текстовые аномалии в эффектные театральные образы, вывести парадокс в ранг приема.
Режиссер спектакля «Любовь» останавливается где-то между.
Не было бы смысла приводить эти обширные замечания о сюжете пьесы, если бы режиссер не решил оставить и исходный текст, и основной посыл. Спектакль Ивана Орлова последовательно следует за пьесой – и в психологическом рисунке героев, и в сюжетных перипетиях. Вот только когда Николай обещает Людмиле, что завяжет с прежней жизнью и будет трудиться, в зале смех. При этом Николай говорит правду, в конце он действительно по щелчку пальцев отказывается от кабаков и гуляний. Но этому противится логика пьесы – и в спектакле это несоответствие хорошо заметно. Никаких дополнительных попыток (новым текстом, мизансценами) убедить зрителя в достоверности эмоций и мотива Николая режиссер не делает. Этому не помогает и сценография – скорее стильный фон для событий, чем самостоятельный образный и смысловой план.
Упора на психологию, который позволил бы самим актерам постараться донести нужное чувство, в спектакле тоже нет. Авторы постановки все-таки пытаются отстраниться от реалистичности, ввести в спектакль элемент игры. Лица актеров выкрашены в белый грим, почти клоунские маски. У Людмилы и Дормедонта – вечно грустные брови, у Лебедкиной – яркий вульгарный макияж. Прием упрощает восприятие и усиливает выразительность, но и ограничивает диапазон эмоций, психологическую глубину. Иван Орлов не хочет попасть в стиль классических постановок по Островскому (с чаепитием и самоварами), но этим отказывается от бесспорно сильной стороны пьесы – ярких и разнообразных характеров. Возможности масочной игры – отстранение и застывший характер эмоций – не используются в полной мере: сохраняется доминирующий пафос.
В итоге актеры вынуждены пробиваться сквозь маски. По-настоящему органично выглядит Дормедонт, образ изначально комедийный и яркий. Психологически разнообразно и точно сделан Маргаритов – кажется единственный любящий герой в спектакле. Образы Людмилы и Николая остаются в рамках противоречий пьесы, их монологи едва ли вызывают нужную для восприятия сюжетных событий эмоцию, а к серьезным высказываниям Николая отношение и вовсе ироничное.
Попытка выйти за границы бытовой драмы видна и в абстрактных, сюрреалистичных образах. Красный свет, сценическая хореография, периодически появляющиеся образы внутренних демонов (или свиты Лебедкиной, или обобщенный образ порочного общества) – эффектны сами по себе и определяют то, что зрительское внимание будет цепляться. Но их значение исчерпывается тем, чтобы проиллюстрировать состояние героев, но не предложить новый код для понимания спектакля.
«В “сценах” как-то все путается и мешается…» – 150 лет назад написал критик. И с этим сложно не согласиться. Но долгая история постановок говорит о том, что пьеса вызывает интерес. В известном спектакле МХАТа 1968 года история поставлена в традициях психологического театра с яркими комедийными акцентами на Лебедкиной, Шабловой, Дормедонте. Людмила и Николай сыграны более сложно, психологически разнообразно – это смягчает эффект от неожиданного финала.
Но Иван Орлов совершенно справедливо видит в пьесе мрачную глубину, густую, сумеречную повседневность, разлитый во всем действии порок и – абсурд. Отсюда «готический» контекст (правда, только в смысле чего-то мрачного и темного), иррациональные образы, танцы и чудачества Дормедонта, акробатические фигуры от Николая. Вдова Лебедкина здесь не в пестрых безвкусных платьях, а в черном костюме и с мундштуком, а Людмила – не задумчивая, серьезная барышня, а совсем молодая девушка-пьеро с рыжими волосами. Попытка отстраниться от психологического плана вступает в странное противоречие с пафосом финала, утверждающим нравственное перерождение героя под сильным воздействием «поздней любви».
«А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно» – произносит последнюю фразу Дормедонт. И эта фраза сказана с преувеличением. Насмешка кажется закономерной в конце этого странного действия, но вступает в прямой конфликт с основной идеей. И парадокс этот так и остается нерешенным.
Мрачная история с неожиданно счастливым финалом в 1873 году удивила и озадачила критиков («Да неужели всё, что мы сейчас видели, была пьеса Островского?»). Сегодня Иван Орлов решил поставить эту комедию в стиле «готической мелодрамы» или «романтической истории». Попробуем понять, что создатели спектакля увидели в «Сценах из жизни захолустья», причем здесь любовь и насколько у режиссера получилось разрешить парадоксы пьесы.
Дом гадалки Шабловой. Обедневший честный адвокат Маргаритов пытается наладить дела: когда-то у него украли документ, а за этим – потеря репутации, нищета и мысли о самоубийстве. Его дочь Людмила (ради которой от страшных мыслей пришлось отказаться) во всем отцу помогает и беззаветно его любит. Их соседи – хозяйка дома Шаблова и её два сына. Глуповатый, но старательный и покладистый Дормедонт и Николай – тоже адвокат, умный и беспутный, промотавший свое состояние в кабаках и задолжавший всему свету.
В этом мрачном мире долговых ям и трактиров, алчности и высокомерия одних и нищей честности других развивается странный сюжет, приводящий к комедийной развязке. Людмила влюблена в Николая. В его распутствах, долгах, самолюбии и пьянстве она умудряется увидеть благородство. Реплики героини о достоинствах молодого адвоката – единственное (до конца пьесы), что должно убедить читателя и зрителя: Николай любви заслуживает. Героиня признается – это, возможно, её «последняя любовь», ради которой она готова на всё.
Это чувство (одновременно иррациональное и высокопарное) приводит её к преступлению и предательству отца: по просьбе Николая она соглашается выкрасть долговой документ и навлечь на родителя позор и новый уровень нищеты. И в тот момент, когда мир «захолустья» должен схлопнуться и утвердить абсолютную алчность и порочность, расцветающих на фоне человеческого несчастья, происходит внезапный – Deus ex machina – финал. Николай успел между сценами нравственно переродиться, затем обмануть распутную вдову (которой хотел отдать тот самый документ) и теперь готов отказаться от трактиров и начать трудовую жизнь. К счастью, находятся и деньги, которые спасут героя от долговой ямы, а Маргаритов, ранее не признававший в Николае человека, готов взять его в напарники и женить на своей дочери.
Как пишет Татьяна Владимировна Москвина, отзывы о первом спектакле по пьесе пестрили словами «странно» и «парадоксально». Нет смысла подробно рассматривать все «за» и «против» пьесы, но хочется обозначить два момента.
Во-первых, чувство Людмилы – сложно назвать любовью. Из-за него Людмила сначала отдает последние деньги Николаю, а затем ради него крадет заемное письмо и тем самым ставит крест на возрождающейся карьере отца и обеспечивает ему репутацию нечестного человека. Безграничная доброта – даже не страсть («Этой мой долг» – уверяет Людмила) – к Николаю приводит к абсолютной беспощадности к своему отцу. Эта «любовь» сродни зависимости или догматизму, но о чем говорить точно не приходится, так о любви романтической.
Во-вторых, сложно поверить в нравственное перерождение и любовь Николая, который после признания Людмилы говорит: «Не в таком я теперь расположении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем, что ж, помеха небольшая…». По ходу пьесы герой уезжает с вдовой Лебедкиной «кататься» и ради этой же вдовы уговаривает Людмилу выкрасть документ. Затем проворачивает аферу с подменой заемного письма и, убедившись, что от Лебедкиной ничего не получит, становится честным человеком и примерным женихом.
Эти парадоксы пьесы невозможно не заметить. В таком случае у режиссера есть две стратегии. Либо поверить Островскому и постараться театральными средствами убедить зрителя в правдивости и естественности истории. Либо обыграть эту жанровую противоречивость, превратить текстовые аномалии в эффектные театральные образы, вывести парадокс в ранг приема.
Режиссер спектакля «Любовь» останавливается где-то между.
Не было бы смысла приводить эти обширные замечания о сюжете пьесы, если бы режиссер не решил оставить и исходный текст, и основной посыл. Спектакль Ивана Орлова последовательно следует за пьесой – и в психологическом рисунке героев, и в сюжетных перипетиях. Вот только когда Николай обещает Людмиле, что завяжет с прежней жизнью и будет трудиться, в зале смех. При этом Николай говорит правду, в конце он действительно по щелчку пальцев отказывается от кабаков и гуляний. Но этому противится логика пьесы – и в спектакле это несоответствие хорошо заметно. Никаких дополнительных попыток (новым текстом, мизансценами) убедить зрителя в достоверности эмоций и мотива Николая режиссер не делает. Этому не помогает и сценография – скорее стильный фон для событий, чем самостоятельный образный и смысловой план.
Упора на психологию, который позволил бы самим актерам постараться донести нужное чувство, в спектакле тоже нет. Авторы постановки все-таки пытаются отстраниться от реалистичности, ввести в спектакль элемент игры. Лица актеров выкрашены в белый грим, почти клоунские маски. У Людмилы и Дормедонта – вечно грустные брови, у Лебедкиной – яркий вульгарный макияж. Прием упрощает восприятие и усиливает выразительность, но и ограничивает диапазон эмоций, психологическую глубину. Иван Орлов не хочет попасть в стиль классических постановок по Островскому (с чаепитием и самоварами), но этим отказывается от бесспорно сильной стороны пьесы – ярких и разнообразных характеров. Возможности масочной игры – отстранение и застывший характер эмоций – не используются в полной мере: сохраняется доминирующий пафос.
В итоге актеры вынуждены пробиваться сквозь маски. По-настоящему органично выглядит Дормедонт, образ изначально комедийный и яркий. Психологически разнообразно и точно сделан Маргаритов – кажется единственный любящий герой в спектакле. Образы Людмилы и Николая остаются в рамках противоречий пьесы, их монологи едва ли вызывают нужную для восприятия сюжетных событий эмоцию, а к серьезным высказываниям Николая отношение и вовсе ироничное.
Попытка выйти за границы бытовой драмы видна и в абстрактных, сюрреалистичных образах. Красный свет, сценическая хореография, периодически появляющиеся образы внутренних демонов (или свиты Лебедкиной, или обобщенный образ порочного общества) – эффектны сами по себе и определяют то, что зрительское внимание будет цепляться. Но их значение исчерпывается тем, чтобы проиллюстрировать состояние героев, но не предложить новый код для понимания спектакля.
«В “сценах” как-то все путается и мешается…» – 150 лет назад написал критик. И с этим сложно не согласиться. Но долгая история постановок говорит о том, что пьеса вызывает интерес. В известном спектакле МХАТа 1968 года история поставлена в традициях психологического театра с яркими комедийными акцентами на Лебедкиной, Шабловой, Дормедонте. Людмила и Николай сыграны более сложно, психологически разнообразно – это смягчает эффект от неожиданного финала.
Но Иван Орлов совершенно справедливо видит в пьесе мрачную глубину, густую, сумеречную повседневность, разлитый во всем действии порок и – абсурд. Отсюда «готический» контекст (правда, только в смысле чего-то мрачного и темного), иррациональные образы, танцы и чудачества Дормедонта, акробатические фигуры от Николая. Вдова Лебедкина здесь не в пестрых безвкусных платьях, а в черном костюме и с мундштуком, а Людмила – не задумчивая, серьезная барышня, а совсем молодая девушка-пьеро с рыжими волосами. Попытка отстраниться от психологического плана вступает в странное противоречие с пафосом финала, утверждающим нравственное перерождение героя под сильным воздействием «поздней любви».
«А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно» – произносит последнюю фразу Дормедонт. И эта фраза сказана с преувеличением. Насмешка кажется закономерной в конце этого странного действия, но вступает в прямой конфликт с основной идеей. И парадокс этот так и остается нерешенным.

Павел Гендрин —
аспирант кафедры истории литературы XX-XXI вв. и литературного творчества ТГУ.
аспирант кафедры истории литературы XX-XXI вв. и литературного творчества ТГУ.