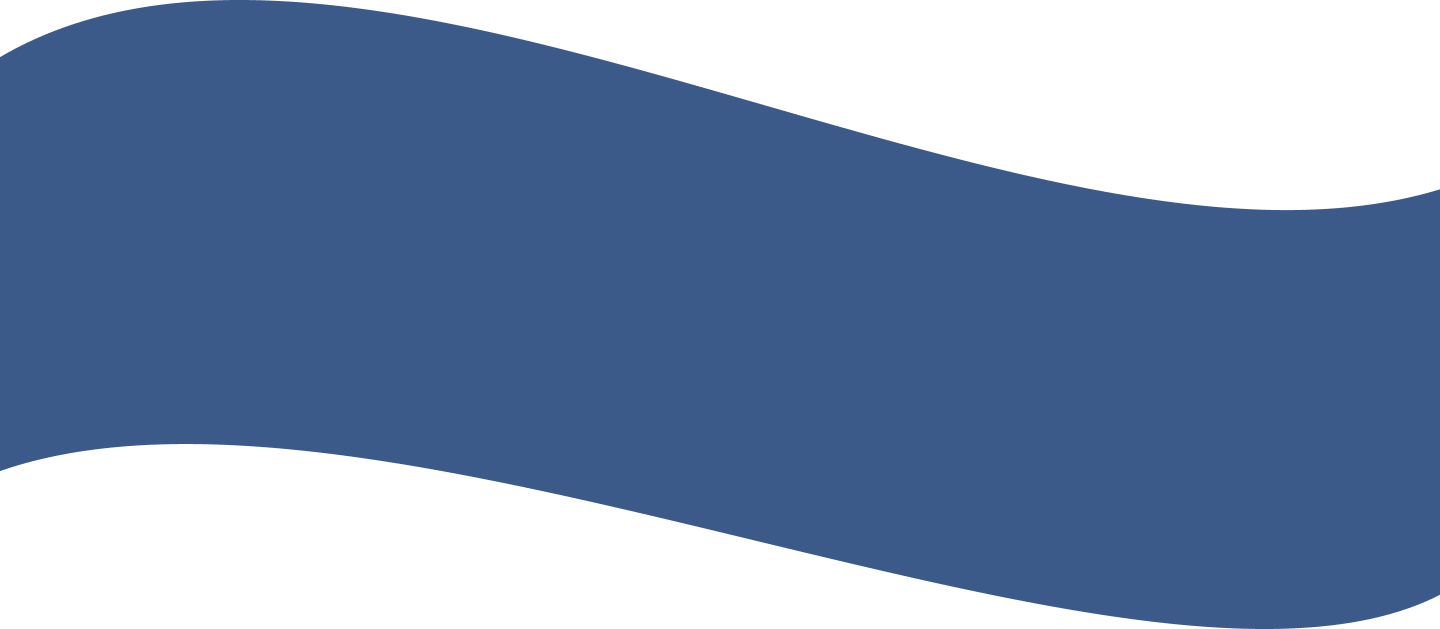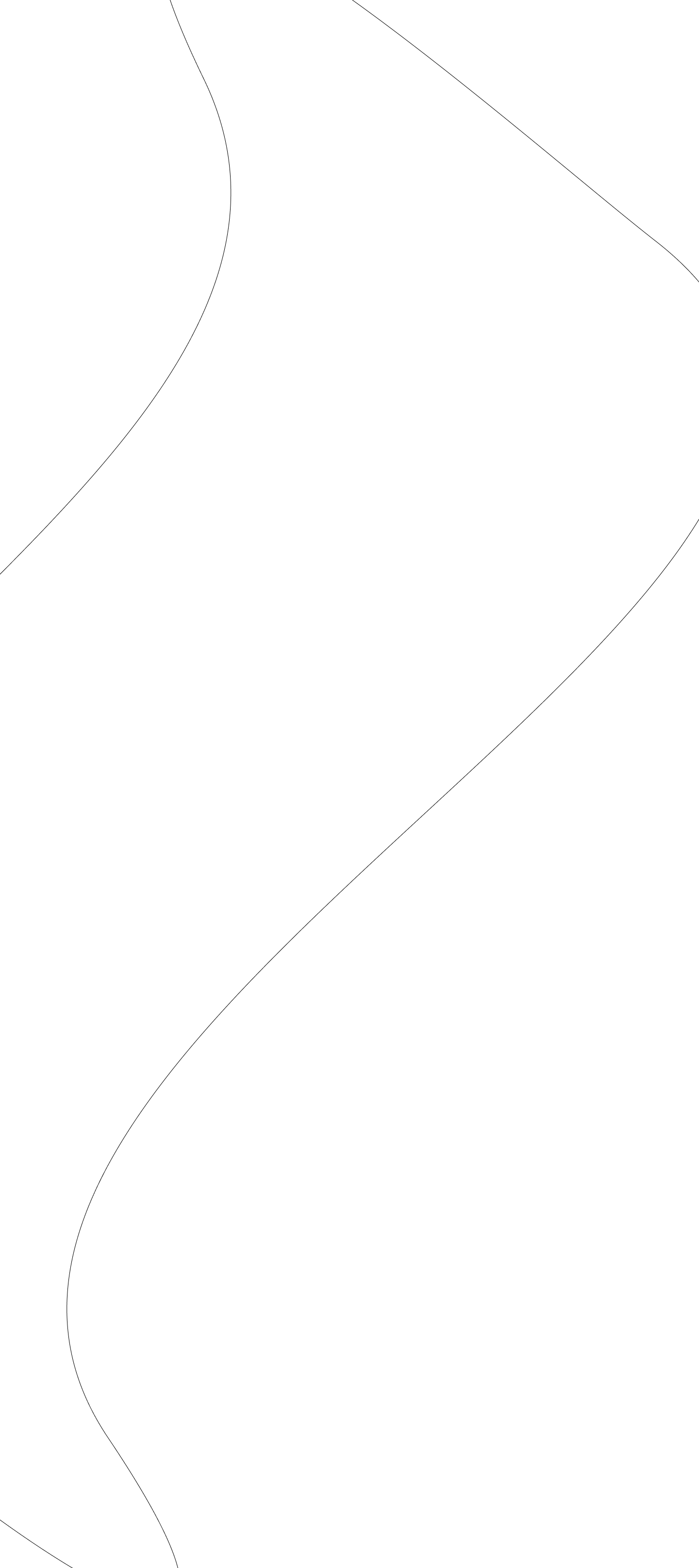

20.02.2025
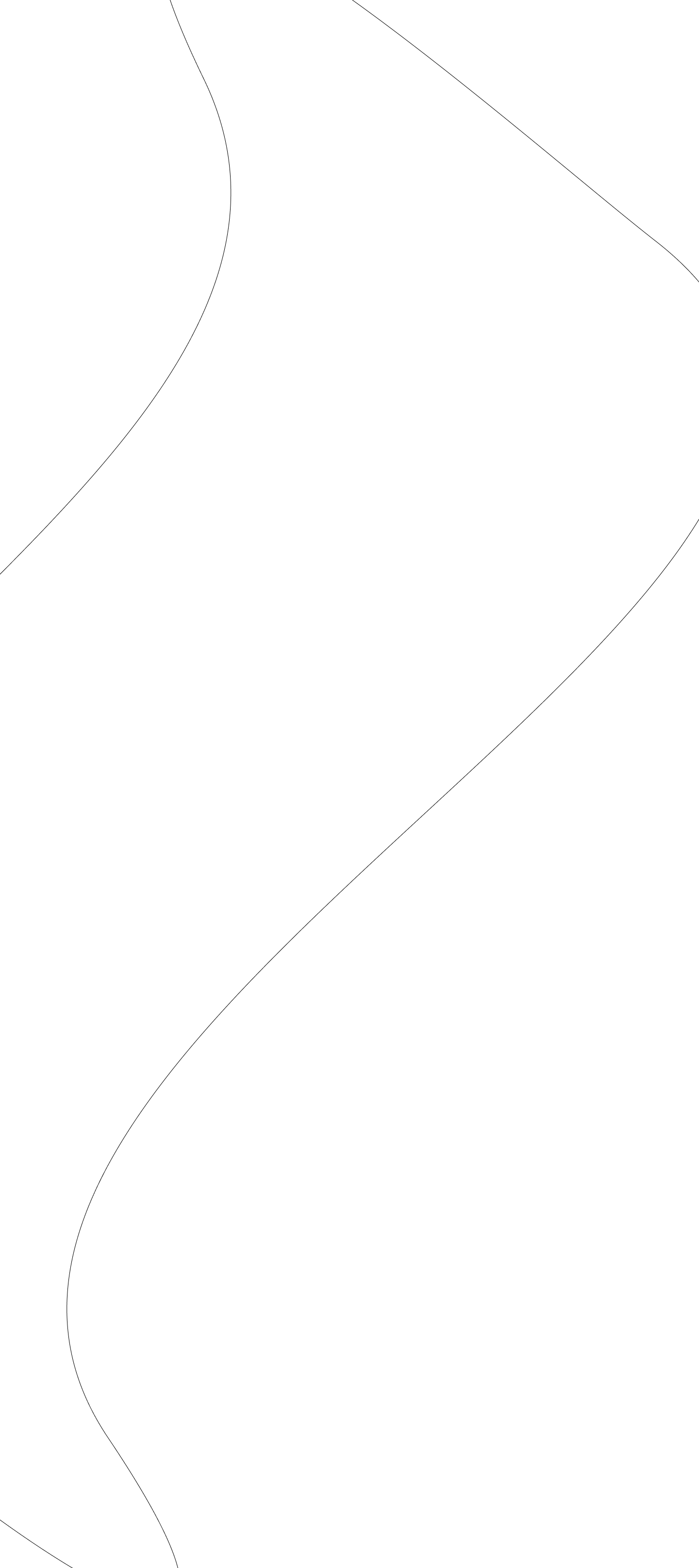

Голубые купола
Памяти моей бабушки
Степан Давыдов - аспирант кафедры истории русской литературы XX-XXI вв. и литературного творчества
В квартире Петра Ивановича, замначальника штаба авиационного отряда, пахнет жареной капустой. За окнами — поздний, удушливо тёмный зимний вечер, по которому, выискивая в клетке горящих окон свои, идёт с остановки его жена, Любовь Сергеевна.
Весь день продержалась серость, а солнце, без остатка растворённое в тучах, село так рано, что кажется, будто оно и не всходило. А сегодня, в субботу, эта сибирская темень стала настоящим испытанием: ни зги не видно, не то что номеров на запущенных домиках — покосились, ушли в землю по самые глаза, да ещё и замело чуть ли не до крыши… Долго бродили Любовь Сергеевна с напарницей по глухим незнакомым проулкам, пока наконец не вернули мамаше забытое чадо, давно уснувшее в санках после казённого ужина.
Да, Пётр Иванович женат на воспитательнице детского сада. Вот из прихожей донёсся стук — скорее, скорее впустить раздутую обшарпанную сумку, некогда бывшую дамской, а вслед за ней и родную хозяйку! Задохнувшаяся, румяная (впрочем, не только в холод, но и круглый год, как все гипертоники), она тихонько втянула в проём тяжёлую дверь, дабы не потревожить серванта с сияющим хрусталём, преданно выглянувшим из зала.
— Ну что, Пётр Иваныч, разбирай гостинцы! Ты, смотрю, тоже время не терял — ещё в коридоре учуяла.
— Ага, Любочка, Лизе я овсянки сварил, а тебе вот капустки нажарил.
— Так ты сам и не садился, что ли?
— Что ж я один-то буду…
— Знаем, знаем мы вашу породу.
И не успела Любочка расправиться с шубой, как Пётр Иванович, проскочив на кухню, нырнул в женину сумку и выставил на стол запотевшую банку котлет.
Провалилась, камнем ушла на дно, а взгляд — будто бы сверху, точнее, вровень с этими заветными вершинами, с искрящейся голубизной. Но где же солнце? Откуда же столько света, отражаемого россыпью золотых звёзд, которой покрыты небесного цвета луковки? Двигаюсь тихо и осторожно, как по музею, а десятки, сотни куполов расходятся вправо и влево, благоговейно уступая полёту и словно приглашая в голубую беспредельность. Их плавные, округлые контуры то сливаются с небом, то выдают себя матовым бликом и сгущением ярких вспышек на его фоне, и такое солнечное пятно, скользя, опоясывает каждую пролетаемую луковку. Неужели солнце светит из-за спины? А может быть, я сама — солнце?..
— Мама, вставай, доброе утро! Скоро Андрюша придёт! — прозвенел будильником голосок Лизы, которую отец отправил на боковую задолго до возвращения Любови Сергеевны.
Пухленькая второклашка с тугими косичками, по-утреннему весёлая и свежая, — пожалуй, единственное, что возвещает наступление нового дня: от окна почти никакого света, и дело вовсе не в шторах.
— А сколько времени, доча?
— Полдвенадцатого. Мы с папой позавтракали, и он в магазин ушёл.
— Ничего себе я разоспалась…
И правда, «скоро Андрюша придёт», но придёт не один, а с Ларисой, которая не только у сестрёнки, но и у матери целый год не может уместиться в семейном кругозоре. А всё почему: ради неё Андрюша бросил филфак (несбывшаяся мечта Любови Сергеевны!), работает не пойми кем в конторе на отцовском предприятии, а Лариса, восемь классов образования, и в ус не дует — мол, на жизнь хватает, и ладно. Да разве это жизнь? Конечно, ей ли рассуждать о жизни — с детства батрачила, слаще моркови не едала… А куда мать, туда ведь и дочь, и лишь Пётр Иванович признаёт Ларису невесткой — рыбак рыбака, гласит народная мудрость.
Понедельник ли, воскресенье — перед глазами Любови Сергеевны старенькая клетчатая скатерть, которая, кроме всего остального, помнит крепкий удар Андрюшиного кулака в ответ на пресловутое: «Она тебе не чета»; помнит полупрозрачные локти в старомодных ажурных рукавчиках — локти Зины, бывшей воспитанницы Любови Сергеевны, принёсшей милому Андрюше очередную плаксивую книжку, а затем упорхнувшей с каким-то заезжим художником… Но чтобы накрыть на стол попышнее обычного — всё-таки воскресный обед, к тому же гости, — маловато времени, да и сил, видимо, тоже: горячая волна поднялась к голове, тело обмякло, в груди теснота, сердце буквально выпрыгивает.
— Лизочка, я пойду прилягу, что-то нехорошо мне.
— Ну мам, что ж опять такое?..
— Ничего, доча, отпустит, таблетку я выпила. А ты пока сбегай до серванта и принеси четыре голубеньких блюдца.
Любовь Сергеевна скрылась в комнате, легла, задремала — и даже не вышла встретить Петра Ивановича с покупками, а вместе с ним и «детей», подцепивших его на обратном пути; сами зашли в спальню поздороваться. Так и пролежала до вечера — в одиночестве, хотя, казалось бы, через стенку. Все привыкли к простому порядку: лишний раз маму тревожить нельзя. Гости не просидели и двух часов, убежали не попрощавшись — наверняка, мама уснула.
…Взгляд — вровень с вершинами, вдоль двух аккуратных рядов. Теперь не лечу, а лежу, лежу на животе (неужели ползу?), ведь передо мной, на уровне глаз, — тропинка между грядок, над которыми, раздобрев от хозяйской заботы и выперев из земли, сверкают после полива золотистые луковки. Но где же солнце?..
На широкой гладильной доске разлеглось палевое кримпленовое платье-футляр, которое Любовь Сергеевна забрала от портнихи на прошлой неделе. Позволив себе тогда всласть покрутиться у зеркала в честь финальной примерки, она в который раз убедилась, насколько ей идёт этот незамысловатый покрой, проявляющий исконную лёгкость фигуры, утратить которую невозможно, даже если очертания округлятся. Вот и сейчас, орудуя марлей и утюгом, Любовь Сергеевна танцует вокруг доски, забыв обо всём, что было до её пробуждения и включения света, позолотившего — в тон платью — привычную зальную обстановку.
— Эх, Любочка, ты как на праздник готовишься, уж чай остыл. Да и не надо бы тебе столько топтаться.
— Я же, Петя, весь день на людях, и коллектив-то женский — там в грязь лицом дважды два. Попробуй покажи кому, что болеешь, ну или дома что случилось — никто ведь не пожалеет, осудят только.
— Да уж, у вас у женщин свои заморочки…
— И почему обязательно праздник; сам не устроишь — никто не устроит. Вон, Катя по молодости вообще в библиотеке работала, а что вытворяла — шифоньер не закрывался. Про Нину, сам понимаешь, и говорить нечего.
— Очень даже есть: артистка твоя Нина во всех смыслах!
…А может, и правда — не появись Петя, так бы и куковали втроём на всю свою глубинку? Три сестры, три больных сердца... Дай Бог, чтобы Лизочка пошла здоровьем в отца!
Чад из столовой осел, и по садику разлилась долгожданная тишина. Любовь Сергеевна со своей напарницей, Ирой Сорокиной, разместились на табуретках у батареи, под единственным в спальне, кружевным от мороза окном, начинающим собою просвет между рядками детских кроваток.
— Ира, на тебе опять лица нет…
— А откуда ему взяться, Любовь Сергеевна: один выходной — и тот насмарку. Нажрался как собака, на работу с утра не вышел, передрались…
— Ну не плачь, Ирочка, не плачь — проспится и будет на человека похож.
— Вот именно, это уже какой-то другой человек, даже когда не пьёт. Ну чем я ему не угодила?.. Говорит, представляете, что я всю жизнь ему испохабила! Я — ему!
— Тщ-щ, давай шёпотом, Ира, дети-то ни при чём.
— Ой, Любовь Сергеевна, а вдруг в ребёнке всё дело… Я слышала, многие из-за этого расходятся, что детей-то нет. Так я разве против, два года всего живём — бывает, и дольше ждут… А вообще, кто его знает, что ему надо, — он со мной и трезвый-то через губу. Надо ж так, я ведь с детства его любила, очень…
Любовь Сергеевна подала Ире носовой платок, отглаженный заодно с платьем.
— А помните, я вам про подругу говорила, которая ваша землячка? Она мне писала недавно, рассказала такую историю, что всё ровно наоборот, чем у меня. Потом и подумаешь, отчего людям хорошо не живётся… Так вот, она эту историю от мамы узнала, это вроде про мамина одноклассника. Был у них, значит, разбойник один, двоечник, Володей, однако, звали. Его вся школа боялась, а он возьми да и подойди к хорошей девочке, она их помладше была, — видать, влюбился, познакомиться решил. И не зря ведь подошёл, стали они дружить, он остепенился, учиться начал, на руках её носил. В итоге он кончил школу, и они расписались, причём втихомолку. Его сразу в армию забрали, а она-то, представляете, не дождалась, убежала за каким-то авиатором. Он вернулся, а её и след простыл, и давай он чудеса творить: пошёл к родне её, стол там перевернул, потом напился и вытряхнул подарки, что ей привёз, целый чемодан, — шёл по улице и раскидывал, проклятия кричал…
Палевый воротник покрылся тёмными пятнами, а те капли, что не впитываются сию секунду, соскальзывают по груди и мочат подол.
— Ну чего вы, Любовь Сергеевна! Держите платочек.
Когда уже безвозвратно стемнело, Любовь Сергеевна быстрым шагом вышла из ворот детского сада, перешла дорогу и направилась к остановке — чтобы, запыхавшись, успеть на последний автобус; чтобы преодолеть четыре лестничных марша, пропитанных хлоркой и стряпнёй; чтобы, стоя в изнеможении у тяжёлой двери, оттиснутой в глазах, на тоскливо-наивное: «Кто там?» — с заготовленной улыбкой ответить: «Свои!»
Весь день продержалась серость, а солнце, без остатка растворённое в тучах, село так рано, что кажется, будто оно и не всходило. А сегодня, в субботу, эта сибирская темень стала настоящим испытанием: ни зги не видно, не то что номеров на запущенных домиках — покосились, ушли в землю по самые глаза, да ещё и замело чуть ли не до крыши… Долго бродили Любовь Сергеевна с напарницей по глухим незнакомым проулкам, пока наконец не вернули мамаше забытое чадо, давно уснувшее в санках после казённого ужина.
Да, Пётр Иванович женат на воспитательнице детского сада. Вот из прихожей донёсся стук — скорее, скорее впустить раздутую обшарпанную сумку, некогда бывшую дамской, а вслед за ней и родную хозяйку! Задохнувшаяся, румяная (впрочем, не только в холод, но и круглый год, как все гипертоники), она тихонько втянула в проём тяжёлую дверь, дабы не потревожить серванта с сияющим хрусталём, преданно выглянувшим из зала.
— Ну что, Пётр Иваныч, разбирай гостинцы! Ты, смотрю, тоже время не терял — ещё в коридоре учуяла.
— Ага, Любочка, Лизе я овсянки сварил, а тебе вот капустки нажарил.
— Так ты сам и не садился, что ли?
— Что ж я один-то буду…
— Знаем, знаем мы вашу породу.
И не успела Любочка расправиться с шубой, как Пётр Иванович, проскочив на кухню, нырнул в женину сумку и выставил на стол запотевшую банку котлет.
Провалилась, камнем ушла на дно, а взгляд — будто бы сверху, точнее, вровень с этими заветными вершинами, с искрящейся голубизной. Но где же солнце? Откуда же столько света, отражаемого россыпью золотых звёзд, которой покрыты небесного цвета луковки? Двигаюсь тихо и осторожно, как по музею, а десятки, сотни куполов расходятся вправо и влево, благоговейно уступая полёту и словно приглашая в голубую беспредельность. Их плавные, округлые контуры то сливаются с небом, то выдают себя матовым бликом и сгущением ярких вспышек на его фоне, и такое солнечное пятно, скользя, опоясывает каждую пролетаемую луковку. Неужели солнце светит из-за спины? А может быть, я сама — солнце?..
— Мама, вставай, доброе утро! Скоро Андрюша придёт! — прозвенел будильником голосок Лизы, которую отец отправил на боковую задолго до возвращения Любови Сергеевны.
Пухленькая второклашка с тугими косичками, по-утреннему весёлая и свежая, — пожалуй, единственное, что возвещает наступление нового дня: от окна почти никакого света, и дело вовсе не в шторах.
— А сколько времени, доча?
— Полдвенадцатого. Мы с папой позавтракали, и он в магазин ушёл.
— Ничего себе я разоспалась…
И правда, «скоро Андрюша придёт», но придёт не один, а с Ларисой, которая не только у сестрёнки, но и у матери целый год не может уместиться в семейном кругозоре. А всё почему: ради неё Андрюша бросил филфак (несбывшаяся мечта Любови Сергеевны!), работает не пойми кем в конторе на отцовском предприятии, а Лариса, восемь классов образования, и в ус не дует — мол, на жизнь хватает, и ладно. Да разве это жизнь? Конечно, ей ли рассуждать о жизни — с детства батрачила, слаще моркови не едала… А куда мать, туда ведь и дочь, и лишь Пётр Иванович признаёт Ларису невесткой — рыбак рыбака, гласит народная мудрость.
Понедельник ли, воскресенье — перед глазами Любови Сергеевны старенькая клетчатая скатерть, которая, кроме всего остального, помнит крепкий удар Андрюшиного кулака в ответ на пресловутое: «Она тебе не чета»; помнит полупрозрачные локти в старомодных ажурных рукавчиках — локти Зины, бывшей воспитанницы Любови Сергеевны, принёсшей милому Андрюше очередную плаксивую книжку, а затем упорхнувшей с каким-то заезжим художником… Но чтобы накрыть на стол попышнее обычного — всё-таки воскресный обед, к тому же гости, — маловато времени, да и сил, видимо, тоже: горячая волна поднялась к голове, тело обмякло, в груди теснота, сердце буквально выпрыгивает.
— Лизочка, я пойду прилягу, что-то нехорошо мне.
— Ну мам, что ж опять такое?..
— Ничего, доча, отпустит, таблетку я выпила. А ты пока сбегай до серванта и принеси четыре голубеньких блюдца.
Любовь Сергеевна скрылась в комнате, легла, задремала — и даже не вышла встретить Петра Ивановича с покупками, а вместе с ним и «детей», подцепивших его на обратном пути; сами зашли в спальню поздороваться. Так и пролежала до вечера — в одиночестве, хотя, казалось бы, через стенку. Все привыкли к простому порядку: лишний раз маму тревожить нельзя. Гости не просидели и двух часов, убежали не попрощавшись — наверняка, мама уснула.
…Взгляд — вровень с вершинами, вдоль двух аккуратных рядов. Теперь не лечу, а лежу, лежу на животе (неужели ползу?), ведь передо мной, на уровне глаз, — тропинка между грядок, над которыми, раздобрев от хозяйской заботы и выперев из земли, сверкают после полива золотистые луковки. Но где же солнце?..
На широкой гладильной доске разлеглось палевое кримпленовое платье-футляр, которое Любовь Сергеевна забрала от портнихи на прошлой неделе. Позволив себе тогда всласть покрутиться у зеркала в честь финальной примерки, она в который раз убедилась, насколько ей идёт этот незамысловатый покрой, проявляющий исконную лёгкость фигуры, утратить которую невозможно, даже если очертания округлятся. Вот и сейчас, орудуя марлей и утюгом, Любовь Сергеевна танцует вокруг доски, забыв обо всём, что было до её пробуждения и включения света, позолотившего — в тон платью — привычную зальную обстановку.
— Эх, Любочка, ты как на праздник готовишься, уж чай остыл. Да и не надо бы тебе столько топтаться.
— Я же, Петя, весь день на людях, и коллектив-то женский — там в грязь лицом дважды два. Попробуй покажи кому, что болеешь, ну или дома что случилось — никто ведь не пожалеет, осудят только.
— Да уж, у вас у женщин свои заморочки…
— И почему обязательно праздник; сам не устроишь — никто не устроит. Вон, Катя по молодости вообще в библиотеке работала, а что вытворяла — шифоньер не закрывался. Про Нину, сам понимаешь, и говорить нечего.
— Очень даже есть: артистка твоя Нина во всех смыслах!
…А может, и правда — не появись Петя, так бы и куковали втроём на всю свою глубинку? Три сестры, три больных сердца... Дай Бог, чтобы Лизочка пошла здоровьем в отца!
Чад из столовой осел, и по садику разлилась долгожданная тишина. Любовь Сергеевна со своей напарницей, Ирой Сорокиной, разместились на табуретках у батареи, под единственным в спальне, кружевным от мороза окном, начинающим собою просвет между рядками детских кроваток.
— Ира, на тебе опять лица нет…
— А откуда ему взяться, Любовь Сергеевна: один выходной — и тот насмарку. Нажрался как собака, на работу с утра не вышел, передрались…
— Ну не плачь, Ирочка, не плачь — проспится и будет на человека похож.
— Вот именно, это уже какой-то другой человек, даже когда не пьёт. Ну чем я ему не угодила?.. Говорит, представляете, что я всю жизнь ему испохабила! Я — ему!
— Тщ-щ, давай шёпотом, Ира, дети-то ни при чём.
— Ой, Любовь Сергеевна, а вдруг в ребёнке всё дело… Я слышала, многие из-за этого расходятся, что детей-то нет. Так я разве против, два года всего живём — бывает, и дольше ждут… А вообще, кто его знает, что ему надо, — он со мной и трезвый-то через губу. Надо ж так, я ведь с детства его любила, очень…
Любовь Сергеевна подала Ире носовой платок, отглаженный заодно с платьем.
— А помните, я вам про подругу говорила, которая ваша землячка? Она мне писала недавно, рассказала такую историю, что всё ровно наоборот, чем у меня. Потом и подумаешь, отчего людям хорошо не живётся… Так вот, она эту историю от мамы узнала, это вроде про мамина одноклассника. Был у них, значит, разбойник один, двоечник, Володей, однако, звали. Его вся школа боялась, а он возьми да и подойди к хорошей девочке, она их помладше была, — видать, влюбился, познакомиться решил. И не зря ведь подошёл, стали они дружить, он остепенился, учиться начал, на руках её носил. В итоге он кончил школу, и они расписались, причём втихомолку. Его сразу в армию забрали, а она-то, представляете, не дождалась, убежала за каким-то авиатором. Он вернулся, а её и след простыл, и давай он чудеса творить: пошёл к родне её, стол там перевернул, потом напился и вытряхнул подарки, что ей привёз, целый чемодан, — шёл по улице и раскидывал, проклятия кричал…
Палевый воротник покрылся тёмными пятнами, а те капли, что не впитываются сию секунду, соскальзывают по груди и мочат подол.
— Ну чего вы, Любовь Сергеевна! Держите платочек.
Когда уже безвозвратно стемнело, Любовь Сергеевна быстрым шагом вышла из ворот детского сада, перешла дорогу и направилась к остановке — чтобы, запыхавшись, успеть на последний автобус; чтобы преодолеть четыре лестничных марша, пропитанных хлоркой и стряпнёй; чтобы, стоя в изнеможении у тяжёлой двери, оттиснутой в глазах, на тоскливо-наивное: «Кто там?» — с заготовленной улыбкой ответить: «Свои!»